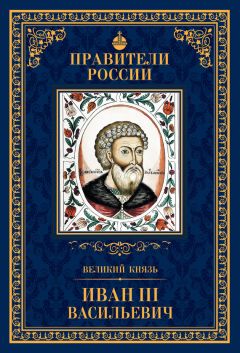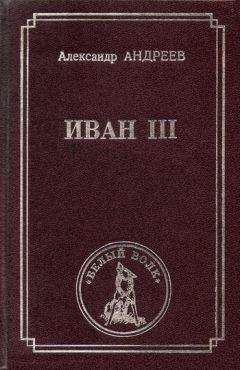Геннадий Гор - Суриков
Но ему еще недоставало профессиональной сознательности в постановке и решении художественных задач, недоставало той глубокой и подлинной культуры, которая достигается только внимательным изучением истории искусств и великих достижений прошлого. Академия не была еще преодолена. В ближайшие годы работа Сурикова приняла совсем иное направление. Решающую роль в этот период сыграла встреча с Чистяковым.
* * *Павел Петрович Чистяков был педагогом нового типа, ничем не похожим на тех чиновников от искусства, какими являлись остальные академические профессора.
Сын крепостного крестьянина, он принадлежал к новой, разночинско-демократической среде не только по происхождению, но и по общественным взглядам, по эстетическим воззрениям, по всему своему душевному облику. Для учеников он был поэтому своим человеком. Ученики не чуждались его, как других преподавателей, а, напротив, стремились сблизиться с ним, высоко ценили его советы и дорожили его мнением. А Чистяков с поразительной прозорливостью умел угадывать будущие таланты и направлять их развитие, тщательно оберегая индивидуальность каждого ученика, как бы раскрывая перед ним ту дорогу, которая была наиболее органична для его характера и дарования. Из мастерской Чистякова вышли величайшие русские художники второй половины XIX века — Василий Иванович Суриков, Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927), Валентин Александрович Серов (1865–1911), и все они до конца жизни сохранили дружбу к учителю и благоговейную память о его уроках.
Вслед за теоретиками демократического лагеря Чистяков неизменно требовал от учащихся осмысленного, содержательного творчества и учил сознательно подчинять идейному замыслу и композицию, и рисунок, и колорит произведения. «Картина, в которой краски бросаются прямо в глаза зрителю, приковывают его, ласкают своими сочетаниями, не есть серьезная картина. Нужно, чтобы краски помогали выразить идею. Картина, в которой зритель старается отыскать смысл — душу, понять содержание ее и краски коей не отвлекают его от вдумчивости и рассуждения, — высокая, серьезная картина», — утверждал Чистяков. Содержательность искусства была, в его глазах, характерной национальной особенностью русской школы. «Я все-таки русский; а мы, русские, более всего преследуем осмысленность. По сюжету и прием; идея подчиняет себе технику», — писал он Сурикову.
Подобно Крамскому и другим ведущим мастерам новой русской школы живописи, Чистяков был глубоким и подлинным патриотом; главную задачу искусства он видел в служении родине и в онемеченной Академии семидесятых годов отстаивал русскую национальную традицию. Но Чистяков не обладал тем боевым общественным темпераментом, который так характерен для идеологов и вождей русского критического реализма.
Чистяков не порывал с классической традицией; он лишь стремился очистить ее от рутины и чуждых напластований, использовать ее лучшие стороны и развить их применительно к новым запросам искусства. Но в косной среде академической профессуры деятельность Чистякова воспринималась как явление чуть ли не революционного порядка. В кругу завзятых рутинеров и чиновников Чистяков был единственным творческим и самостоятельно мыслящим человеком. Немудрено, что «охранители заветов», нередко враждовавшие между собой, единодушно и дружно ополчились против него.
Чистякову приходилось вести упорную, ежедневную борьбу с академическим начальством и сотоварищами. Среди профессуры он слыл чужаком и сам ее чуждался. «Я с некоторых пор теряюсь и развлечение нахожу только среди честных и трудолюбивых юношей, сверстников же (кроме Боткина), в сфере коих вращаюсь, презираю от всей души», — писал он другу.
Авторитет Чистякова сложился и вырос вопреки официальному непризнанию, служебным интригам и постоянным, большею частью мелочным нападкам.
Репутация «опасного и беспокойного профессора» укрепляла уважение к нему со стороны передового студенчества.
Многое в Чистякове казалось особенно привлекательным для учеников. Он обладал глубокими и разносторонними знаниями в области искусства, но в его эрудиции не было и тени педантизма. Он владел даром яркой и образной речи, любил говорить загадками, объясняться притчами и употреблять цветистые «художнические» словечки, вроде знаменитого эпитета «чемоданисто», которым однажды наградил неудачную картину на академической выставке, и вместе с тем он умел обобщить свой долгий опыт и разнообразные наблюдения в коротком, выразительном афоризме, который ученики запоминали на всю жизнь. Классы, руководимые Чистяковым, были всегда полны; многие ученики добивались того, чтобы помимо классных занятий брать у него уроки на дому. Часто Чистяков, окруженный молодежью, появлялся в залах Эрмитажа и объяснял слушателям приемы и технику старых мастеров; кроме него, ни один профессор не снисходил до такой близости с учениками.
Система Чистякова представляет собой характерное явление русской педагогической мысли, непосредственно связанное не только с разночинско-демократической эстетикой, но и со всем кругом прогрессивных общественных воззрений шестидесятых-семидесятых годов.
Миросозерцание передовых людей этого времени складывалось под могущественным влиянием успехов науки. Методология естественных наук именно в эту эпоху оказала, как известно, глубокое воздействие на самые разнообразные области культуры, сблизив их с научным мировоззрением. Создавая свою систему, Чистяков мыслил ее как своеобразную науку о рисунке и живописи, основанную на точных наблюдениях и проверенных опытах; он стремился выяснить объективные закономерности, руководящие работой художника, и сознательно овладеть ими, не подменяя их ссылками на «божественный дар» и интуицию, на которых строилась романтическая эстетика и теория «искусства для искусства». Разумеется, он не отрицал значения таланта и вдохновения, но делом педагога считал лишь развитие знаний и воспитание мастерства. Система Чистякова прежде всего реалистична; она противостоит, с одной стороны, рутинной педагогической практике Академии художеств, а с другой — тем антиреалистическим течениям, которые проникали в Россию с Запада.
В основу своей системы Чистяков положил не только свой собственный опыт педагога-практика и огромный запас самостоятельных наблюдений и выводов, — он стремился обобщить результаты глубокого и пристального изучения мировой классической живописи, в частности мастеров Возрождения, а также использовать лучшие стороны наследия русской Академии художеств. В Александре Иванове он видел великого мастера и с глубоким уважением относился к Брюллову.