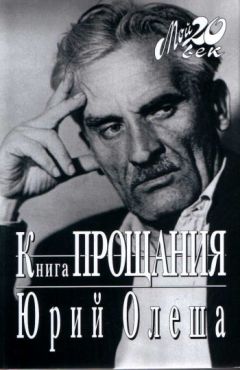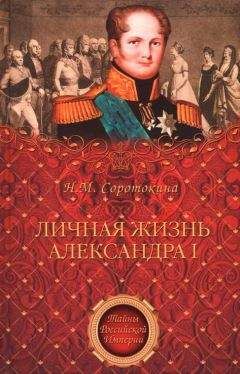Юрий Олеша - Книга прощания
Кто они — эти бородачи? Охотники? Почему некоторые возлежат на бурках? Почему у ног центрального сидит пойнтер?
Это Россия, и я ненавижу ее.
А если вынуть картон из-под стекла, то на обороте окажется тиснутая золотом фамилия фотографа — надпись, похожая на летящий корабль, где каждая буква раздута, как парус.
Россия — была гимназия, и главный столп ее — директор,[42] о котором, собственно, я и собирался писать рассказ.
Мы все очень боялись директора. Он действительно был какой-то страшный.
По внешности это был сухопарый, с козлиной бородой, высокий, изможденный господин, ходивший по сияющим коридорам как-то летя.
Иногда он внезапно, что всегда было похоже на завершение некоего грозного порыва, входил в класс.
Фрр!
Это встают сорок мальчиков. Сорок лиц смотрят на дверь. Он стоит мгновение в дверях как коршун, если бы коршун был высок и взвивался на дыбы.
Тук-тук-тук-тук…
Это мы садимся. Он идет, высокий и прямой, но с тенденцией сгорбиться, как бы под ношей сознания того, как скверны, как подлы мы, ученики. О, он был очень театрален. Каждый шаг его был рассчитан, должен был пугать.
Зачем он пришел?
В день двенадцатилетия революции я задаю себе вопрос о себе самом. Я спрашиваю себя: ну, русский интеллигент, кем ты стал? Что стало с тобой?
Мне тридцать лет. Когда произошла революция, мне было восемнадцать. Тот аттестат зрелости, который получил я, еще был припечатан орлами. В последний раз выдавались такие аттестаты. В последний раз заказывали студенческие фуражки. Никто из нас еще не знал, что раз этот — последний.
Сорок лет чужой судьбы — как это много!
Сколько лет Достоевскому? Вот он сидит на портрете, покручивая хвостик бороды, плешивый, с морщинами, похожими на спицы, — сидит во мраке минувшей судьбы, как в нише.
Сколько лет этому старику?
Под портретом написано, в каком году запечатлен. Высчитываю — выходит, старику сорок лет.
Какой емкий срок, какая глубокая старость — сорок лет Достоевского!
Между тем мне только девять осталось до сорока. Тридцать один собственный год — как это мало!
Теперь я думаю о том, что вот уже нахожусь я в том возрасте, когда все герои классиков оказываются моложе меня.
Сколько лет Онегину? Года двадцать два. А давно ли воспринимался он как взрослый господин — с бачками, с лакеем, с пистолетом?
…даме с буфами, в мантилье, глядящей в бинокль из ложи, полной господ в цилиндрах, на скачки и имеющей сына немногим старше нас? Она гораздо старомодней тех дам, которые изображают на портретах юность наших, уже стареющих, матерей. Сколько же ей лет? Неужели двадцать пять?
Почему же такими старыми представлялись они нам?
Мы брали возраст эпохи, покоившейся в учебниках истории и руководствах по русской словесности, — и, множа его на трудность ее изучения, заключенную в долгих годах гимназического курса, получали бесконечно переросший нас возраст героев, известных еще четырем поколениям до нас.
Когда-то, читая «Анну Каренину» и установив, что Стиве Облонскому тридцать один год, я подумал о себе, что мне только пятнадцать. Ага, подумал я, значит, все впереди у меня… очень долгая жизнь, — вернее, очень долог еще разбег к жизни, если Стива Облонский, который вдвое старше меня, называется молодым человеком.
Теперь мне столько лет, сколько Стиве Облонскому.
Тогда казалось мне невероятным, было окутано туманами то, что произошло теперь: я стал старше всех героев литературы, я, маленький, нуждавшийся в усиленном питании, похожий на маму.
Я перерос героев великой литературы. Стоит ли мне читать после этого? Могу ли я учиться у более молодых, могу ли подражать героям, которые моложе меня? Читать было интересно постольку, поскольку книги каким-то боковым образом говорили мне о будущем. Это было в ранней юности. Тогда я читал вперед. Теперь я читаю назад. Тогда, читая, я находился в будущем времени — и это было легко! Теперь, читая, я сползаю в прошлое — и это мучительно, трудно…
И между тем, несмотря на то, что мне тридцать один год, что уже замечаю я на себе и в себе физические признаки постарения, — тем не менее до сих пор я ни разу не почувствовал себя взрослым.
Все время кажется мне, что взрослость где-то там, что она еще наступит. В чем причина такого состояния? О нем говорят многие, от многих я слышал такие же признания: мы не чувствуем себя взрослыми.
Взрослость в том смысле, как понималось это в буржуазном воспитании, — означала утверждение в обществе и большей частью — через овладение собственностью. У нас уничтожили собственность. Что такое теперь — положение в обществе? В каком обществе? Из каких элементов слагается современное общество?
Вряд ли кто-нибудь из тридцатилетних чувствует себя взрослым.
Наши отцы были лиричней и традиционней, чем мы. Они ценили дружбу, культивировали ее эстетику. После выпускных экзаменов возносилась клятва: помнить друг друга, не терять друг друга из виду в житейском море, каждые пять лет собираться всем, кто будет жив, в городе юности, чтобы поднять бокалы в ее честь.
А мы не успели поклясться.
Мы разошлись без шума. Некоторые ушли раньше, чем наступила традиционная весна выпуска. Они поступили в артиллерийские школы, чтобы успеть на войну. На войну они не успели, потому что началась революция. Первым убит был Данчев, бывший в Корниловском полку. Еще связь наша с гимназией, со старым миром, не была разорвана: по Данчеве служили панихиду в гимназической церкви, и я стоял с другими в синем сумраке на коленях.
Потом погиб Миша Шнейдерман, большевик, расстрелянный на Дону атаманом Сорокиным[43]. Потом Колодин, мой ближайший друг, сказал мне твердым голосом, употребляя Вы вместо Ты, имевшего пятнадцатилетнюю давность, что только подлецы могут смотреть на гибель родины.
Вот теперь, через многие годы, постаревший и набрякший, писатель, — заглядываю я с Садовой улицы в гимназический двор. Сумерки в августе. Какие сны клубятся там, где в углу сгруппировались акации, под которыми сидела бабушка[44], пока я держал экзамен в приготовительный класс.
Неповторяемая, чистая жизнь мальчика, воспоминания о которой говорят мне, что детство есть гордость, за одну каплю которой я отдал бы все завоевания зрелости.
Пишу эти строки в Одессе, куда приехал отдыхать от безделья, от толкания за кулисами театров и в кулуарах бывшего МодпиКа,[45] состоящих из лестницы и подступов к уборной, от литературных споров на террасе Дома Герцена, от бодрости Луговского[46] и собственной упадочности.