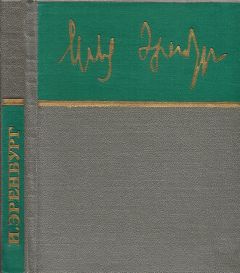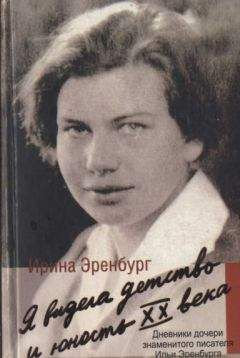Ева Берар - Бурная жизнь Ильи Эренбурга
В стилизации под народную плясовую слышится топот босых ног и грохот канонады, напоминая о «Двенадцати» Блока (январь 1918 года); затем плясовая сменяется плавной, торжественной интонацией — то ли великой ектеньи, то ли литании в духе Шарля Пеги: «Господи, пожалей!.. / О матерях, что прячут своих детей, / О тех, что в тоске предсмертной молятся, / О всех умученных своими братьями / Миром Господу помолимся»[74].
В своей статье «Поэзия и революция. Александр Блок и Илья Эренбург» Волошин отмечает, что обоим поэтам присущ мощный «мистический реализм», и сближает их творчество с «политической музой» Агриппы д’Обинье, французского поэта XVI века. Эренбург был посвящен в русские поэты, но, впрочем, посвящение это было весьма двусмысленным: «Все стихи Эренбурга построены вокруг двух идей, еще недавно столь захватанных, испошленных и скомпрометированных, что вся русская интеллигенция сторонилась от них. Это идея родины и идея Церкви. Только теперь в пафосе национальной гибели началось их очищение. И ни у кого из современных поэтов воскресающие слова не сказались с такой исступленной и захватывающей силой, как у Эренбурга. Никто из русских поэтов не почувствовал с такой глубиной гибели родины, как этот Еврей, от рождения лишенный родины, которого старая Россия объявила политическим преступником, когда ему едва минуло 15 лет, который десять лет провел среди морального и духовного распада русской эмиграции; никто из русских поэтов не почувствовал с такой полнотой идеи церкви, как этот Иудей, отошедший от иудейства, много бродивший около католицизма и не связавший себя с православием. <…> „Еврей не имеет права писать такие стихи о России“, — пришлось мне однажды слышать восклицание по поводу этих поэм Эренбурга. И мне оно показалось высшей похвалой его поэзии. Да! — он не имеет никакого права писать такие стихи о России, но он взял себе это право и осуществил его с такой силой, как никто из тех, кто был наделен всей полнотой прав»[75].
Итак, в глазах Волошина, Эренбург — великий поэт, хотя и не русский. Чтобы правильно понять ход рассуждений Волошина, нужно помнить, что русские евреи получили право жить в Москве и Петрограде всего год назад. Александр Блок в это время записывал в дневнике презрительные рассуждения о еврейском «духе иронии и отрицания». В московском «Кафе поэтов» произвела фурор эпиграмма на Эренбурга и поэтессу Веру Инбер, тоже недавно вернувшуюся из Парижа:
Дико воет Эренбург,
Одобряет Инбер дичь его,
Ни Москва, ни Петербург
Не заменят им Бердичева[76].
Не лучше ли было Эренбургу заявить, что он еврей или, по крайней мере, еврейский поэт, пишущий по-русски, и не выставлять себя на посмешище своими молитвами о распятой России, которые никем не воспринимались всерьез? Когда вышел сборник стихов Эренбурга, Маяковский назвал его «испуганным интеллигентом», а участник петербургского кружка формалистов Виктор Шкловский — «еврейским имитатором».
Однако Эренбург упорствовал в своем русском патриотизме. Едва ступив на русскую землю, Эренбург осознал, насколько он за эти годы оторвался от родной почвы. Он ощущал это и в писательских кружках и клубах, и среди простого народа, в поездах и на митингах. Всюду его преследовало сознание непохожести и чувство, что его любовь к родине нелепа и никому не нужна. Все, что у него осталось, — это идея России, ностальгия по той мистической связи, что на чужбине соединяла его с родной землей. В упорно афишируемом патриотизме было столько же эпатажа, сколько и истинного чувства, столько же цинизма, сколько и искреннего восторга.
Вопреки злой эпиграмме его непохожесть на окружающих объяснялась вовсе не местечковостью; в Москве Эренбургу не хватало не Бердичева, а Парижа: «Я зашел в кафе на Арбате, начал что-то строчить; подошла девушка, сердито забрала пустой стакан и сказала: „Здесь вам не университет…“ Я отвык от русского быта и часто выглядел смешным»[77]. Впрочем, «Кафе поэтов» и не походило на «Ротонду»: длинная комната с низким потолком, затоптанный пол посыпан опилками, вдоль стен и посередине комнаты стоят большие столы, на них серые скатерти, вместо стульев — маленькие табуретки. Приходили туда личности, мало причастные к поэзии, «в основном, по выражению тех лет, „недорезанные буржуи“». Постепенно Эренбург становится частью этой московской литературной фауны, оказавшись, как и многие, без денег, без семьи, без друзей. Он устраивает поэтические вечера, печатается в газетах и журналах — это позволяло заработать на жизнь. Он бывает и в салонах меценатов — у Кара-Мурзы и Цетлина, только что приехавшего из Парижа. В конце января 1918 года Александр Блок записал в дневник свой разговор с молодым и весьма циничным поэтом-декадентом Валентином Стеничем: «Сначала было три Б (Бальмонт, Брюсов, Блок); показались пресными; Маяковский, и он пресный; — Эренбург (он ярче всех издевается над собой; и потому скоро все мы будем любить только Эренбурга)»[78].
Действительно, ирония стала стилем Эренбурга, но она не имела ничего общего с нигилизмом, в котором Блок обвинял евреев. Напротив, Эренбург считал себя моралистом, а начал он с критики литературных кругов. Свое разочарование, гнев, боль за разоренную Россию он выплеснул на футуристов и на Блока. Блок и Маяковский были в числе тех пяти «мастеров культуры», которые вместе с поэтом Рюриком Ивневым, художником Альтманом и режиссером Мейерхольдом первыми согласились сотрудничать с большевистским правительством. Признавая талант Маяковского, Эренбург язвительно высмеивает футуристов: они «в общем хаосе уютно устроились, завалили пустые магазины своими книгами <…> и чуть ли не в каждом кафе читают свои произведения». Творчество этих певцов «его величества пролетариата» стало «официальным искусством»[79], и они процветают под крылом наркома просвещения Анатолия Луначарского (с которым Эренбург был знаком с времен парижской эмиграции). Гибель культуры и всех ценностей, в первую очередь веры, — это их дело: «Потащим Христа на Чрезвычайку!» — хвастается придворный большевистской поэт. «Для меня понятие России смердит, как дохлая собака», — заявляет один из чиновников[80].
В 1918 году 1 мая пришлось на Страстную пятницу, и в Петрограде большевики не решились проводить демонстрацию. Зато в Москве, как рассказывает Эренбург, футуристы взяли дело в свои руки: «Возле Иверской часовни толпились молящиеся. Мимо них проезжали грузовики <…> задрапированные беспредметными холстами; актеры на грузовиках изображали различные сцены: „Подвиг Степана Халтурина“ или „Парижскую коммуну“. Одна старушка, глядя на кубистическое полотно с огромным рыбьим глазом, причитала: „Хотят, чтобы дьяволу мы поклонялись…“ Я смеялся, но смех был невеселым»[81].