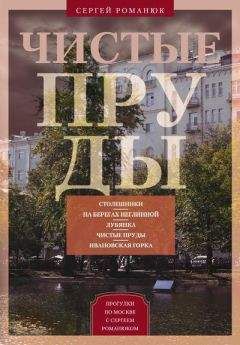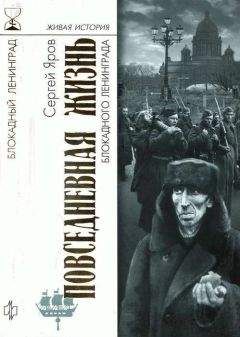Сергей Яров - Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941 —1942 гг.
Не менее прискорбны последствия таких поступков. Чем больше одежды снимали с умершего, тем быстрее преодолевали и моральные запреты. Может, кому-то трудно было оказаться здесь первым, но не исключено, что ставшее предельно открытым зрелище неостановимого мародерства делало участие в нем приемлемым и менее отталкивающим. Не все участвовали в избиениях, но привыкали к ним, и видели, как ползают в крови, не имея сил встать, истощенные дети и подростки – а разве это не способно было вызвать черствость и безразличие.
Можно предположить, что стремление погреть руки на народной беде не было сначала главной целью и у некоторых продавцов: прежде всего хотели спасти себя и своих близких, конечно, за счет других. Но не могли удержаться, появлялся дух наживы, и акт собственного спасения превращался в акт «цивилизованного» грабежа несчастных, обессиленных, оказавшихся на блокадном дне – грабежа с целью обогащения. Если возможны страшные, немыслимые еще недавно преступления, то не следует ли менее бурно откликаться на мелкие нарушения этики? Следует ли себя считать виноватым, если речь идет не о воровстве, а о том, чтобы отвернуться от упавшего на снег, не ответить на просьбу о помощи? Все это впитывалось человеком, могло им усваиваться даже подсознательно, стало привычной реальностью, задевающей далеко не всех, не требующей эмоционального отклика. Все это не возникло внезапно, но исподволь начинало предопределять мотивы его поведения: с чем-то надо смириться, на что-то не надо тратить слов – не удивляться, не сердиться, не обещать, не спрашивать себя…
Глава II. Содержание нравственных норм
Понятие о чести
1
Изучение «блокадной этики» трудно в силу нескольких причин. Во-первых, иногда сложно отслоить позднейшие оценки очевидцев событий от тех, которые были распространены в «смертное время». Помещая себя как действующее лицо в блокадные рассказы, человек неизбежно должен был часто давать такие объяснения своим поступкам, которые не выглядели бы парадоксальными и жестокими. От него ждали не оправдания отступлений от нравственности, с чем встречались тогда на каждом шагу, а драматического пересказа наиболее ярких эпизодов, которые могли бы подтвердить значимость совершенного подвига.
Во-вторых, нельзя говорить о системности и прочности моральных правил горожан на рубеже 1941–1942 гг. Они менялись столь же постоянно и быстро, как и блокадная повседневность. Их можно оценить в полной мере, только изучая «большие тексты» – многостраничные дневники и объемные, насыщенные подробностями записи. Такие документы, однако, встречаются не очень часто. О бытовавших тогда нравственных нормах мы нередко узнаем из кратких и не всегда мотивированных, порой единичных откликов. Определить точно, что же перед нами – глубинный настрой или проявление минутной слабости, обычай или единичный случай, исключение из правил или принципиальная позиция – мы едва ли сможем. Отметим также, что иногда один и тот же человек способен был едва ли не одновременно совершить поступки как благородные, так и бесчестные.
По фрагментарным записям мы можем дать лишь набросок портрета того человека, который считался порядочным и честным.
В документах, передающих детали блокадного кошмара, вообще трудно встретить «равновесие» отрицательных и положительных оценок, равно как и их взвешенность. Нередко даже один, потрясший человека поступок, способен был начисто стереть все то мутное и обидное, что было между людьми.
Для И. Меттера образцом порядочности являлся писатель А. А. Крон. В рассказе о нем виден, конечно, навык литератора, стремление найти привлекательные черты, умение подобрать слова возвышенные. Слова, не всегда стершиеся, порой обращающие на себя внимание необычностью метафор: «Он поражал меня своей человеческой естественностью, закономерностью. Закономерностью всегдашней порядочности, чести, личного достоинства»[249]. Пример его доброты здесь тоже приводится («он приносил мне кусочки своей еды, сэкономленный обед на корабле»); его значимость подчеркивается и тем, что сам А. А. Крон был болен цингой[250]. Но важны не только эти подробности. Чтобы передать с особой силой восхищение им, как раз и необходима такая манера предельно обобщать, оценивать различные проявления гуманности и сострадания короткими фразами, которые своей яркостью и пафосностью кажутся единственно приемлемыми в этом рассказе.
Подросток В. Мальцев – не литератор, как И. Меттер, у него и слова проще и оценки прямее: «Он первый из тех военных, что я встречал по пунктам и в военкомате, который оставил глубокий след… Чувство уважения к нему сохранится надолго»[251], – писал он отцу о майоре Никифорове, обучавшего школьников военному делу.
У В. Мальцева конкретная, «житейская» причина, вызвавшая положительную оценку, названа открыто и не затемнена, как у И. Меттера, каскадом патетических формулировок. Майора уважают потому, что он честен. Если его подчиненные рыли окопы, то и он рыл тоже. Он ползал по снегу на тактических занятиях так же, как и обучаемые им школьники. Он опытен, он прост, он не придирается, он требует ответа только после того, как сам все подробно расскажет и удостоверится, что его поняли. Так в многообразии замеченных В. Мальцевым образцовых поступков упрочиваются важнейшие для него понятия о чести: не пользоваться, как средством, другими людьми, не относиться к ним безразлично, а сопереживать им, увлекать их, помогать им, понимать их, быть с ними в их заботах и трудностях.
2
Такие развернутые характеристики в блокадных записях, правда, довольно редки. Обычно в них только кратко отмечаются отклики на какие-то отдельные, чем-то особо обратившие на себя внимание поступки. По ним представить целостный портрет «идеального» человека весьма сложно, но они дают возможность лучше понять содержание нравственных норм.
Что такое порядочный, честный человек в представлении блокадников? Прежде всего это тот, кто не будет жить за чужой счет. Даже детям педагог К. Ползикова-Рубец пыталась внушить, что они, пока здоровы, не должны позволять родителям отдавать им «свою порцию еды»[252]. Пытаясь устроиться на работу, подростки объясняли это тем, что хотят помогать семье и не быть нахлебниками[253]. «Я страшно устаю, но зато по своей рабочей карточке могу существовать сама, не объедая маму, которая страшно похудела, и делюсь с папой, который тоже неузнаваемо изменился», – читаем в дневнике А. С. Уманской[254]. Разумеется, здесь имела значение и возможность подкормиться самому, но крайне истощенный вид родных едва ли отмечался в таких свидетельствах случайно.
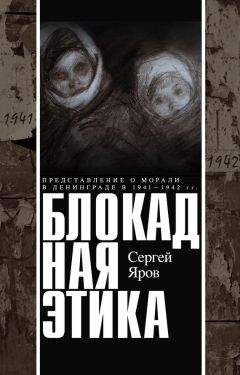
![Юрий Нагибин - Вместо предисловия [к сборнику «Время жить»]](/uploads/posts/books/44833/44833.jpg)