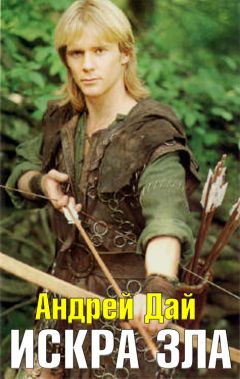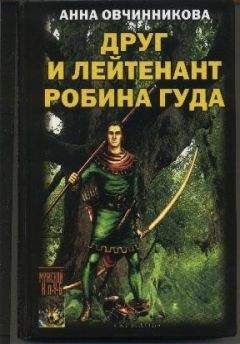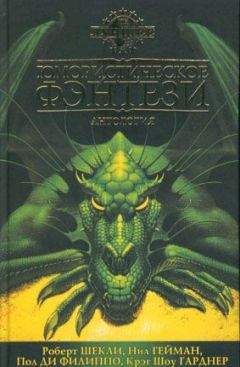Иван Киреевский - Том 3. Письма и дневники
2 часа
Теперь уже вы в сборе и, может быть, уже у всенощной. Думайте об нас весело. Обнимаю вас крепко до завтра. Петр и Рожалин уже спят давно. Петр что-то говорит сквозь сон, может быть, христосуется с вами. Попробую, не удастся ли мне повидаться с вами во сне. Покуда прощайте.
6/18 апреля
Не знаю, что у вас сегодня делается, и потому не знаю, праздник ли для вас сегодня. Эта мысль мешает еще больше, чем разлука с вами. Какая скверная вещь — расстояние! В каждую мысль об вас она втирается незваным гостем, похожим на «Варвикова соседа». Сегодняшний день старались мы сколько возможно сделать нашим Светлым Воскресеньем, по крайней мере с внешней стороны. В 9 часов отправились в греческую церковь. Но здесь ничто не напоминало нам даже русской обедни, потому что, кроме греческого языка, в здешней церкви еще и та особенность, что поп вместе дьячок, и дьякон, и поп. Зрителей, любопытных немцев, собралась непроходимая толпа, а из русских, кроме нас, были только Тютчевы[39], у которых мы сегодня и обедали. Оба брата и жена Федора Ивановича очень милые люди, и, покуда здесь, я надеюсь видеться с ними часто. Жаль для моего брата, что они едут в Россию. Они нравятся и ему, что, впрочем, вы могли заметить из его писем.
21. Родным
26 апреля / 8 мая 1830 года
Мы получили ваши милые письма, которые опять освежили душу. Что бы ни писали вы, даже то, что вы пишете об моем расстраиваньи братниной и Рожалиновой дружбы, все читается с наслаждением. Каждое слово, каждый оборот фразы переносит меня перед вас. Смотря на вас, говоря с вами, я не всегда чувствовал ваше присутствие так живо, как читал ваши письма. Ради Бога, не велите Маше трудиться над письмами к нам и учиться писать их… Пусть пишет, что придет в голову, и так, как придет. Мне кажется, что, для того чтобы ей уметь оценить свои письма, она должна принять за правило то, что чем хуже написанным письмо ей кажется самой, тем оно лучше в самом деле. Неужели все душевное, простое, милое должно делаться без сочинения! После этого в чем же состоит мудрость? Теперь только чувствую, как глубоко чувствовал Рафаэль, когда вместо всякого выражения своей мадонне дал только одно выражение — робкой невинности. Но, чтобы мне не заговориться, я начну отвечать на ваше письмо по порядку. Сначала об Рожалине. Если я не совсем понял вас из прежнего письма вашего об нем, то в этом виноваты немножко вы сами. Вы не писали ко мне, что ему хочется ехать в Мюнхен, но что он соглашается ехать туда за то, чтобы вы доставили его в Россию. По крайней мере, я так понял вас. Если же житье Рожалина в Мюнхене жертва, думал я, то это жертва бесполезная, потому что брату он другой пользы не принесет, кроме удовольствия быть вместе. Для этого не стоит ему жертвовать другими планами, если у него есть выгоднейшие. (Я тогда не знал еще, что отъезд Киреева оставлял его на 1-й тысяче рублей, и кроме того думал об В.[40]). Но если Рожалин считает поездку в Мюнхен жертвою, то он должен видеть в ее результатах что-нибудь больше простого удовольствия. Что же! Быть учителем брата и пр. — вот мысли, которые заставили меня написать к вам то, что я написал. Конечно, я виноват, что не понял вас, но и вы не правы, что положились слишком на мою понятливость, а еще больше, что предположили, что я буду действовать против вашей воли. Я ни минуту не поколебался, когда узнал его, а еще больше, когда, увидевшись с Рожалиным, я узнал его обстоятельства. Напротив, только моя твердая решительность могла преодолеть его колебание. Но говорить об деле сделанном не значит ли терять время? На вопросы ваши о Петруше я отвечал в последнем письме. Об унынии его не могу ничего сказать, потому что теперь вместе нам унывать некогда. Вообще я надеюсь, что он слишком занят для этого. А если бывает иногда грустно, думая на Восток, — тем лучше! Это дает значительность жизни и деятельность. Я очень хорошо испытал это в последнее время: вообразите, что свидание с братом и Рожалиным отняло у меня беспокойство одиночества, отняло вместе почти всю ту деятельность, которой я сам радовался в Берлине. Я опять сплю после обеда, опять не чувствую каждой минуты, опять ничего не сделал. До сих пор не был ни у Шеллинга, ни у кого из примечательных людей и, кроме театра, сада, концерта и ежедневной картинной галереи, не видал ничего и никого. Зато картинная галерея совсем овладела мною. Иногда мне кажется, что я рожден быть живописцем, если только наслаждение искусством значит иметь к нему способность; чаще, однако, мне кажется, что я никогда не буду иметь никакого толка в живописи и даже не способен понимать ее, потому что именно те картины, которые всего больше делают на меня впечатление, всего меньше занимают меня сами собою. Я до сих пор еще не могу приучить себя, смотря на картину, видеть в ней только то, что в ней есть. Обыкновенно начинаю я с самого изображения и чем больше вглядываюсь в него, тем больше удаляюсь от картины к тому идеалу, который хотел изобразить художник. Здесь поле широкое, и, прежде чем я успею опомниться, воображение закусит удила и, как черт святого Антония, унесет так быстро, что, прежде чем успеешь поднять шапку, она лежит уже за тысячу верст. Только тогда, когда материальное присутствие картины напомнит о себе, узнаешь, что был далеко, почти всегда там, где всходит солнце. Мне самому смешно сознаваться в этой способности наслаждаться в картине тем, чего в ней нет, и я очень хорошо чувствую всю странность этого качества, которое, чтобы быть совершенно conséquent[41], должно больше всего радоваться золотою рамкою около пустого места. Еще страннее мне видеть это качество именно в себе, у которого оно не заменяется даже творчеством воображения, потому что воображения собственно у меня нет, а его место заступает просто память. Вообразите, что мне иногда случается долго смотреть на одну картину, думая об другой, которая висит через стену, подойдя к этой, опять вспомянуть про ту. Это не врожденное, и я очень хорошо знаю — откуда.
22. Родным
28 апреля / 10 мая 1830 года
Вот я уже целый месяц тут, и останусь, может быть, весь семестр, следовательно, пишите ко мне не в Париж, а в Мюнхен. В самом деле странно бы было уехать отсюда, не слыхавши Шеллинга. Он начинает завтра. Я между тем слушаю уже Окена натуральную историю и его же физиологию и Шорна историю новейшего искусства. У Шеллинга и Окена я был, познакомился с ними и надеюсь быть не один раз. Но подробности всего в следующем письме. Кроме них и Тютчевых, я здесь еще не видал никого. День мой довольно занят, потому что, кроме субботы и воскресенья, я четыре часа в сутки провожу на университетских лавках, в остальное время записываю лекции. Если мне удастся их записать, пришлю к Погодину, если вы беретесь взять с него честное слово, чтобы он не напечатал из них ни одной буквы, потому что если Шеллинг узнает, что его слова тискаются, то готов сделаться заклятым врагом. Этому были уже примеры. Прощайте! Письмо к Баратынскому пошлите в деревню, если он еще не в Москве. Пишите к нам чаще, и больше, и подробнее, а пуще всего будьте здоровы. Верно, еще письмо пришлем через две недели. Мы разочли, что, так как мы вместе, можем писать вдвое чаще. Напишите мне все, что знаете обо всех, кто помнит меня и кто забыл. Перестали ли грызть мою статью?