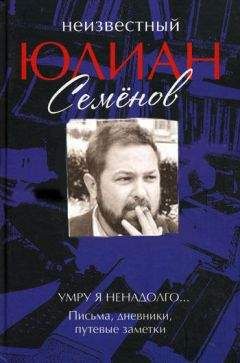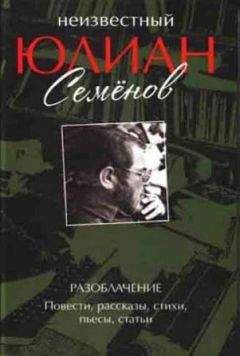Ольга Семенова - Юлиан Семенов
Из письма отца маме 5 января 1955 года.
С утра снег теплыми хлопьями снова начал ласкать землю. Так отец нежно укрывает замерзшего ребенка. Вокруг такая тишина, что даже слышно, как снежинки ложатся на землю. Сосны — летом размашистые и зеленые — сейчас скованы осторожной лаской зимы и поэтому кажутся тонкими подростками. Зимний день догорает сиреневостью неба…
В комнате тихо играет музыка. Хорошая музыка любви и печали. Толстая лампа давит стол овалом света. Два человека сидят на разных концах стола и смотрят друг на друга. Иногда они улыбаются, пьют вино, морщатся от ядреной горечи выпитого, молчат…
Наверное, они не слышат музыку. Музыка для них слилась в общий тон счастья. Она ухаживает за ним. Он что-то ест и наверняка не чувствует вкуса. Потом они подходят к окну. Вдали у ворот фонарь ехидно моргает падающему снегу. Он, наверное, и им моргает — он хитрый, — фонарь. Все понимает, потому что очень много видел. Фонари все такие… В окно видны лозы зелени, которая летом делает дом веселым и зеленым. И сосульки милые и безалаберные…
Я попросил тебя подойти к окну — посмотреть на тот же снег, который в декоративном освещении фонаря шел и шел. Ты сразу вспомнила, потому что это помнили мы с тобой. Только ты и я. И больше никто. Знаешь, это, наверное, присуще любящим: помнить, понимать и чувствовать что-то, только им принадлежащее. И каждый любящий, наверное, думает, что так только у него одного, и это верно. Очень часто моя память с фотогенической чуткостью перелистывает страницы моей любви к тебе. И родная, верь мне, я листаю их с таким наслаждением…
Папа действительно очень хорошо помнил первые месяцы их романа — робкого, платонического. Мама то тянулась к нему, то, неуверенная в себе, стеснительная, дичилась. Тесно общаясь с Андроном, он постоянно на нее «натыкался» и понял, что отношения их не будут тривиальной интрижкой.
Из дневника отца, 1955 год.
…Когда я расстаюсь с тобой, всякий раз почему-то мне вспоминается яркое осеннее утро, наверное, потому, что в такое же яркое утро уезжал в Москву. Я вспоминаю все, даже самые мелкие детали. Мы с Андроном спали в каминной. Мне нужно было встать в шесть часов утра и успеть на автобус. Проснулся я в восемь. Проснулся от солнца, от шума ветра в лесу и от того, что ты была рядом. Я был весь во власти непонятного чувства то ли большой грусти осени, то ли чего-то, еще не понятого мной. Когда я проходил мимо твоей комнаты, услышал Никиту. Громким шепотом он спросил меня: «Юлька, ты уезжаешь?» — «Да». — «А Катенька уже проснулась?» Я вышел в столовую и сразу же вышла туда ты. В халатике — он тебе чуточку мал, очень утренняя, не по-осеннему свежая и с ямочкой на щеке. Пришла одетая в модную пижаму старуха Абашидзе. Мы о чем-то поговорили — совсем незначащих вещах. Утро было чудесное, как музыка Скрябина: высокое-высокое небо, солнце, как бы нарисованное сочной желтой краской, и расцвеченные редкими солнечными лучами сосны.
Помнишь, выскочил Дик и стал играть со мной, хороший, глупый Дик. Ты яростно загнала его в конуру. Он боялся тебя. Я попрощался и пошел к выходу. Обернулся два раза — ты стояла и немножко грустно улыбалась. Глупая моя девочка хорошая. Помахал тебе рукой, ты тоже. Когда я галопирующей рысью шел по Николиной Горе, все нет-нет да оглядывался — думал: может быть, ты выйдешь на дорогу, нет не вышла.
Я думал, а что, если у шофера сломалась рессора и он стоит у магазина? Но автобуса уже не было — рессоры были в порядке. Подумал — а может, вернуться? Черт с ней, с работой, там Катька… Жирный грузовик затормозил рядом и чумазый шофер сказал — подвезу… Я поехал… В поезде, притулившись к окну, все вспоминал тебя, и ты меня чем-то страшила, наверное, чистотой своей. И я сам себе был страшен — ведь тогда тебя не было рядом…
…Однажды мы сидели в кабаке втроем — Митька Федоровский, Андрон и я. Пили водку. Андрюша стонал и, как всегда, требовал женщину. При этом он сшибал со стола ножи и рюмки. Митька, сдвинув брови над пустой бесцветностью глаз, мелодраматически хватался за голову. Я пил и улыбался. Мне было плохо. Потом Андрон, тоже, Меттерних, сказал: «Юлька, почему ты не звонишь Катьке? Женись на ней. Папочка достанет вам квартиру». Это было немного смешно, немного трогательно и немного гадко. При чем здесь квартира? Я ответил ему: «Дорогой, Катя не пара мне. Я не знаю, что может статься со мной… Она девушка, чистая. Будь она женщиной, она могла бы стать моей любовницей — приятно иметь такую любовницу, и вообще хватит про это…»
Я помню, как в начале октября я приехал к Андрону и встретил тебя. Ты вела Никиту в школу. Вы опаздывали. Мне хотелось побыть с тобой, а ты была вся колючая, как ежик, и порывистая. Я вас ждал внизу — Никитка кричал сверху: «Юля, подожди меня!» И ты звонко кричала в тот же самый пролет лестницы, в который сейчас шлешь мне поцелуй свой: «Не жди, Юлька, иди!» А я ждал. Ты схватила Никиту за руку и, увидев троллейбус, с норовистостью Н. Думбадзе убежала. Никак я не думал, что это от любви. Разозлился. Пошел гулять по улицам.
С тех пор я не видел тебя. В ноябрьские праздники я был один. Андрону привели какую-то толстую корову на смотрины. Андрон охмурял ее разговорами о Скрябине. Она смотрела на него интересующимися глазами, кокетничая и изредка зевая.
Мы шли с Андроном по усталому Садовому кольцу часов в пять утра. Моросил дождь, было тихо и безлюдно. Я люблю такую Москву. Андрон громко жаловался на одиночество и снова сердито требовал бабу, пугая грозящей ему импотенцией. Когда мы подошли к твоему дому, он спросил: «Ну почему ты не звонишь Катьке? Ты должен на ней жениться». Мы говорили о тебе. Мне было грустно. Потом я запойно играл в преферанс, пил водку и такая тоска меня грызла, Катька… Это не тот угар, в котором мне приходилось бывать. Тогда я был в строю, у меня мышцы были на спине от напряжения сведены. Я тогда был готов ко всему и ко вся… Хотя тоже был один. Сейчас же было бессилие. Иногда я целыми днями лежал в кресле и ничего не хотел и не делал. Просто и по-русски грустил. И осень вошла навязчивой рожей скуки и унынья. Ко мне приходили люди, собирали по десятке и пили. Смеялись… лицами, губами… В душе такой холод и пустота! И я подумал, ну что я теряю, я одинок, более одиноким стать не смогу, а могу стать самым счастливым. Я помню ту субботу. Я позвонил тебе, ты пришла, и у меня вырвалось наружу то, что долго скрывалось, — боль одиночества и желание быть с тобой. Утром, когда я встал, тебя уже не было. Ушла. Я мучился и думал, что, может быть, я сделал плохо. Но ведь я не мог иначе. Вернее мог, но это было бы плохо и неискренне. Я тогда вечером почувствовал, что ты мне нужна, как жизнь, как пьянящая радость деревенского утра. Я ушел к друзьям: смеялся, шутил и был горд сознанием того, что у меня есть Катя, которую я люблю и которая любит меня. А вечером, когда я был с отцом у его тюремного друга, мне становилось временами грустно и плохо. Особенно плохо стало, когда я услыхал голос Андрона. Он сказал мне: «Ты сделал что-то нехорошее». Я рассердился на него. И когда я пришел к тебе, то увидел, что ты не очень рада моему приходу. Так я тогда подумал. Ты рисовала на глянцевой бумаге какие-то фигуры и листала большущую книгу.