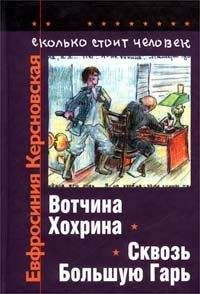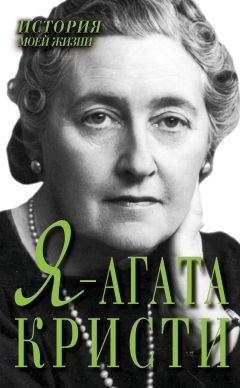Евфросиния Керсновская - Сколько стоит человек. Тетрадь девятая: Чёрная роба или белый халат
Но у нее и так статья 58. И тому, у кого она уже имеется, надеяться на пощаду не приходится! А дома на Украине у нее дочь, которую она оставила четырехлетней сиротой в колхозе у почти слепой старухи…
Отказчица должна пойти на песчаный карьер
Грохочут запоры моей камеры:
— Собирайся на работу!
— Никуда я не пойду!
— Как так не пойдешь?
— Я ни в чем не виновата. А меня избили, изувечили… Я должна повидать начальника лагеря лейтенанта Амосова.
Проходит некоторое время. Опять отпирают дверь.
Я с трудом двигаюсь. За ночь все ссадины и кровоподтеки опухли, а левая рука как подушка. Правый глаз заплыл: я его вообще не могу открыть. Чтобы не замерзнуть, я всю ночь бродила по камере и лишь каким-то чудом еще жива. Но я беру себя в руки и направляюсь к двери.
Сильный удар по затылку — и я падаю ничком в снег.
— Ты не хочешь идти на работу? Так получай же!
За этим следует несколько пинков сапогом.
Вскакиваю:
— Пусть врач из первого лаготделения меня осмотрит! И начальник лагеря!
Бранные слова и тумаки сыплются на меня градом. Меня тащат через всю зону. Я молча, но яростно сопротивляюсь. Только что могу я — избитая, искалеченная?!
Вот вахта. Восемь-девять женщин — весь «урожай» ШИЗО — стоят уже по ту сторону, дожидаясь меня.
Начальник режима говорит конвоиру:
— Это злостная отказчица и симулянтка! К тому же членовредитель. Она должна, обязательно должна пойти на песчаный карьер!
— Ну, пошевеливайся! — и с этими словами один из конвоиров размахивается и бьет меня прикладом меж лопаток.
Падая, я еще слышу, как отчаянно кричит одна девчонка-мотористка с нашего участка, которая часто попадала в штрафной изолятор из-за неудачных любовных похождений:
— Что вы делаете? Она не отказчица! Она — лучшая наша работница!
Не знаю, умышленно или нечаянно, но удар пришелся по затылку. Боли я не почувствовала. Все озарилось, будто освещенное вольтовой дугой. И я лечу, лечу… И — темнота.
Кто-то меня поднимает, сажает в снег, но я опять валюсь. Перед глазами все серовато-мутное, в ушах будто звенят колокольчики. Но вот начинаю соображать. Где я? Ах, да… Агде девчата? Их уже увели. С трудом встаю на ноги и нетвердым шагом иду, сама не знаю куда.
— Керсновская! К начальнику! Скорее, скорее!
К начальнику… Да, к начальнику я пойду.
«Байдин в беде не покидает!»
Штаб — такой же барак, как и все. В середине — прихожая, направо — УРЧ[6], налево — секретарь, а в глубине — большая комната, кабинет начальника.
Обстановка кабинета тоже обычная: письменный стол в глубине, направо — диван, налево — ряд стульев.
За столом — начальник лагеря лейтенант Амосов. В противоположность лейтенантам «от псарни», таким, как Полетаев и Путинцев, он — настоящий. На эту должность попал с фронта, после ранения. Говорят, человек порядочный, не из породы палачей.
Мне кажется, мой вид его потряс. Он явно смущен.
— Что там произошло, Керсновская?
Мне очень трудно стоять. В голове звон, пол уплывает из-под ног, в глазах все качается и мерцает. Рассказываю коротко, сжато, не скрывая ничего. Впрочем, то, что Полетаеву влепила пощечину, преподношу в дипломатическом виде: дала, мол, сдачу! Когда дошла до того, как Полетаев мне выкручивал руки и я поначалу сопротивлялась и чуть было не закрутила ему руку за спину, то тип, сидевший на диване, отгородившись газетой, рванулся и оказалось, что это сам Полетаев.
— Неправда! — завопил он обиженно. — Не могла она…
Я, не обращая на него внимания, продолжала. Но здесь произошло нечто непредвиденное. Дверь распахнулась, на пороге появился Бабкин — вольнонаемный работник УРЧ, дурачок (но брат его был прокурором по сектору заключенных).
Глаза его лезли на лоб. Он захлебывался:
— Только что звонили с шахты 13/15. Сюда едет Байдин, и с ним — парторг!
Тут Бабкин споткнулся об порог и растянулся во весь рост.
Байдин?! Ну, разумеется! Байдин не покидает в беде. Это я сама видела, когда он лез в бункер, спасая Казакова. Как он узнал? Да это Машка Сагандыкова ему сказала на наряде, моя славная Машка… А что же теперь будут делать они? Наверное, поспешат убрать меня с глаз долой, ведь мой вид — улика. Скажут, что я со штрафниками на работе, а потом… Такие, как Полетаев и Путинцев, сумеют убрать «вещественные доказательства». Мертвые не обличают.
Нет, я отсюда не уйду!
Я взглянула на Амосова, и мне стало смешно. Вспомнилась заключительная картина из «Ревизора» — та же оторопь, растерянность: все застыли и молчат.
Но вот в дверях вновь показался Бабкин.
— Байдин уже на вахте! На нашей вахте… Сейчас…
Не знаю, с чем сравнить то, что я чувствовала. Мне казалось, что я слышу шаги Байдина, даже когда он был еще на вахте. Но теперь это уже не галлюцинация. Хлопнула дверь, шаги в прихожей и голос:
— Стахановцы у нас — лучшие люди; Керсновская — лучшая из наших стахановцев. Что вы сделали с Керсновской?
В ту же минуту на пороге появилась долговязая фигура Байдина.
Следом за ним вошел парторг нашей шахты Борис Иванович Рогожкин, в пальто, с портфелем под мышкой.
Переступая порог, Байдин повторил свой вопрос:
— Что вы сделали с Керсновской?
Вопрос чисто риторический — посреди комнаты стояла, широко расставив ноги, чтобы не упасть, сама Керсновская, и нетрудно было увидеть, что с ней сделали. Заплывшие глаза, изорванная, испачканная кровью одежда и особенно распухшая, как подушка, кисть руки не требовали объяснения.
Тремя шагами пересек он комнату, поздоровался за руку с начальником лагеря, с начальником режима и со мной. Затем взял стоявший у стены стул и, подавая его мне, сказал: «Садись, Антоновна!»
— Так что же вы сделали с Керсновской? — повторил он в третий раз, садясь на диван.
Рогожкин сел рядом.
— Она обматерила конвой… — начал было Полетаев.
— Да вы шутите! Мы, шахтеры, что греха таить, на язык несдержанны. Так не то чтобы она сама, а даже в ее присутствии самые отъявленные матерщинники сквернословить перестают! Нет, тут что-то не так. Расскажи-ка ты, Антоновна, как оно все было на самом деле!
И я рассказала. Всё. Байдин не давал меня прерывать, хотя он и так все знал: частично — со слов Машки, а остальные факты были налицо, в прямом и переносном смысле. И все же он не мог скрыть жест возмущения, когда я говорила, как меня, избитую и раздетую, заперли в холодную, а затем (не только без санкции врача, но несмотря на ее протест) пытались погнать на песчаный карьер.