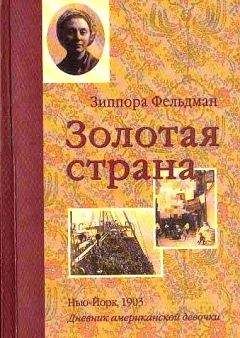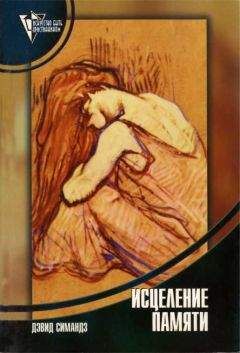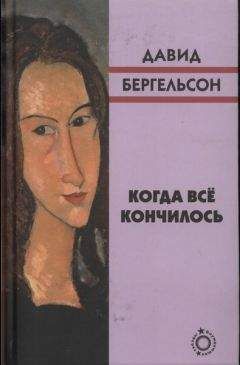Дэвид Роскис - Страна идиша
Гриша ненавидел Исроэла Вельчера еще сильнее, чем Александр, ведь после смерти Фрадл Исроэл запер типографию на висячий замок, чтобы Гриша не утащил все подчистую. Гриша решил поквитаться. Опираясь на один из параграфов завещания Юды-Лейба Маца, гласивший, что, если Фрадл снова выйдет замуж, деньги перейдут к ее детям, и не испытывая доверия к еврейским судам, Гриша подал гражданский иск против собственной матери от имени собственного отца, причем обоих родителей в живых уже не было. Фрадл выиграла дело. Исроэл, в качестве ее мужа, получил по суду 18,5 процентов сверх имевшихся у него изначально 25 процентов от общего дела, то есть вместе вышло 43,5 процента. Только после смерти Исроэла в 1925 году Гриша завладел бизнесом и попробовал свои силы в публикации нот идишской музыки, прежде чем сумел продать весь запас сфорим Гурского ребе.[102]
Гриша крепко держался за это приданое, несмотря на энергичное вмешательство братьев Роскис. Енох апеллировал к нему лично, предлагая в обмен на приданое долговые обязательства, а у Шийе был план предложить Грише дорогую мебель. Гриша, сказал Енох во время нашей последней беседы, проведенной в целях установления фактов, был просто очарователен — такое отношение к Грише отцу, насколько мне известно, было чуждо.
Среди полуночников, собиравшихся в Гришином доме, некоторые уже были врачами, адвокатами и журналистами. Если они не исполняли жалобную песнь еврейского гангстера из Варшавы, заимствованную у «Арарата», или не разыгрывали очередную пародию на ребе-чудотворца, любезно предоставленную Ди Банде, то придумывали пародии друг на друга и пели последние польские хиты двадцатых годов, переведенные на идиш Лейбом Стоцким,[103] тем вундеркиндом, который в тринадцать лет переводил Пушкина.
«Безумство охватило Вильно, — пели они, — все с ума посходили по Мальвине».
Завсегдатаями были Гриша, Наденька и Ривеле; Пинхес Кон,[104] адвокат и историк-краевед; Шмуэль Дрейер,[105] еще один адвокат и ведущий журналист виленского Тог; Шлойме Гиттель, какое-то время работавший в бюро по переписи населения; Фима Каплан; племянник Клецкина Саша Розен; и Йосеф Тейтель. Из всех них в живых остался только доктор Либо,[106] франтоватый капитан команды Маккаби[107] по гребле, — они с женой прятались в землянке, да Мальвина, которая по чистой случайности играла в театре на Второй авеню, когда Гитлер вошел в Польшу.
К концу своей жизни она играла роль богатой вдовы, окружив себя приживальщиками, которые о ней заботились. Старость была к ней куда милосердней, чем к маме, и поэтому ее смерть в 1987 году оказалась для меня полнейшей неожиданностью. На похоронах в «Плазе», где я произнес в память о покойной надгробную хвалебную речь, было немноголюдно. Эстер, беспокоясь о своем наследстве, прилетела из Израиля.
Мой формальный, литературный идиш ни на кого не произвел впечатления, кроме Феликса Фибиха,[108] с которым мы ехали на кладбище в одном лимузине. Фибих, родившийся в самом сердце еврейской Варшавы, как я узнал тем дождливым вечером, был сыном хасида, владевшего рестораном «Симхе» и согласившимся оплатить его учебу в актерской студии молодежного театра. Михл Вайхарт,[109] этот холодный ум, научил Феликса дышать диафрагмой. Когда из-за конфликта с правительством молодежный театр развалился, он занялся танцем, и в итоге женился на своей наставнице, Юдит Берг. (Я тоже влюбился в нее, увидев, как она танцует, в идишской версии фильма Дибук.) После вторжения немцев они вместе бежали в оккупированный Советским Союзом Белосток и там встретились со знаменитым Шлойме Михоэлсом,[110] который пришел от них в такой восторг, что решил создать еврейский танцевальный ансамбль, ведь из всех советских народов такого не было только у евреев. Но на самом деле Михоэлс хотел как-то выразить свое еврейское горе или утопить его в водке; как и Перец Маркиш,[111] читавший после представлений свои стихи танцорам, среди которых была старинная любовь Феликса, Элла Любельска, в прошлом игравшая в белостокском Театре миниатюр под руководством Джигана и Шумахера.[112] Маркиш следовал за ней повсюду. Она была любовью его жизни, «еврейской танцовщицей» из его великой поминальной песни польскому еврейству.[113]
Когда разразилась германо-советская война, Элла эвакуировалась в Ташкент и там прошла пешком пятьдесят километров, чтоб записаться на курсы медсестер. Для польской еврейки было не так-то просто добиться зачисления медсестрой в Красную армию, но она не сдавалась, пока, насмотревшись на все там происходившее, не растеряла иллюзий и не присоединилась к Польской армии в изгнании. Война закончилась, и Элла отправилась назад в Москву, в надежде возобновить отношения с Маркишем. Он не просил ее остаться. Тогда она вышла замуж за польского еврея, вместе с ним вернулась в Польшу, родила от него дочь и перебралась в Нью-Йорк. В 1956 году когда вдруг открылось, что Маркиш вместе с другими советскими идишскими писателями был расстрелян на Лубянке 12 августа 1952-го, Элла покончила с собой.
С тех самых пор и по сей день несчастная любовь Эллы к великому идишскому поэту ассоциировалась для меня с исключительным вниманием Гриши к певице идишского кабаре — это единственный эпизод его жизни, пробуждающий во мне симпатию к нему. Хиастически[114] жестокосердие Маркиша по отношению к своей возлюбленной предвозвестило то, как Мальвина поступит с Феликсом. Ведь в качестве одного из Мальвининых душеприказчиков — а ее завещание содержало распоряжения относительно изрядного состояния Макса, швейцарского золота, а также коллекции древностей, которая была передана, в соответствии с его волей, в дар Музею Израиля, — я должен был одобрить то, что Феликс, который так много для нее сделал, получил жалкие гроши. Больше я Феликса никогда не видел. За одно золото пришлось заплатить такие судебные издержки, что я был совершенно поражен, получив чек на 30 000 долларов, — мою половину платы за услуги душеприказчика. Но не мама. Она отнеслась к этому совершенно спокойно. Даже во время телефонного разговора мне казалось, что я вижу ее улыбку.
«Трать эти деньги со спокойной душой, — сказала она мне, — с нами расплатились за Мальвинины розы».
Глава 8
Водонос
Ломившийся от фруктов, варений и чая стол дяди Гриши — а эта компания полуночников никогда не выпивала, никогда не прибегала к каким-либо посторонним искусственным возбуждающим средствам — был местом спевок и протестов. Вильно все-таки был местом рождения (в 1897 году) Еврейского рабочего Бунда[115] России и Польши, некоторые из основателей которого, например Анна Розенталь, и в те времена еще маршировали во главе каждой первомайской демонстрации. Однако объектом протеста мамы и ее товарищей был не внешний классовый враг, а враг внутренний, еврейский. Так объяснила мама моему другу Майклу Станиславскому,[116] которому поручили провести с ней серию интервью в рамках проекта «Еврейские народные песни в их социальном контексте». Польша 1920-х годов, утверждала она, была пропитана еврейским самоненавистничеством, тем, что она называла комплект,[117] неврозами, и лучшим способом борьбы с ними были пародийные песни на идише.