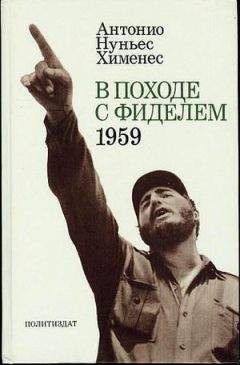Михаил Ольминский - В тюрьме
V. ВОСПОМИНАНИЯ. БЕЛЫЕ НОЧИ
Уже в самом начале второго года – несколько рановато – я начал бессознательно говорить о своем положении: «Не к покрову, а к петрову», то-есть не к темной осени, а к светлому лету моей жизни, к освобождению идет время: осталось меньше двух лет, а прошло, считая со дня ареста, уже почти три года. А с тех пор как задумал свою большую работу, явилась мысль о ценности времени. Сначала только сожаление о беспутно проведенном дне: немного помечтаешь, почитаешь газету, позубришь стихи, сходишь на прогулку, иногда на свидание – день и прошел. И сам себе удивляешься: это я становлюсь способным жалеть время, тюремное время!
От мечтаний, конечно, не вполне освободился, а это кажется задачей совершенно безнадежной – ухитряться жить в одиночке без мечтаний; это столь же фантастическое мечтание, как и мечтание о шапке-невидимке. Но в первом году, по сравнению с теперешним, мечтания занимали слишком большое место. В конце концов стало тогда казаться, что я уже обо всем на свете перемечтал и пришел к краю пропасти, от которой нет спасения. Кризис, к счастью, разрешился поворотом к мысли. Раньше случалось неделю проводить без книга, а теперь не бывает дня, чтобы хоть немного не почитал.
В это время, чуть ли не десятый раз в жизни, я перечел Щедрина «Господа Головлевы». И на этот раз это произведение произвело на меня совсем особое, потрясающее впечатление. Последняя глава, где описывается опьянение Иудушки своими мечтаниями, точно воспроизводила некоторые моменты моей собственной мечтательности. Я встряхнулся и только теперь мог сказать, что ожил. Мысль работает еще очень медленно, но тюремного времени, потраченного на думание, я, конечно, не жалею. Не ради результатов, а из сознания, что это процесс выздоровления. А с началом большой работы, с приступом к ней, я точно нашел себя: нашел область применения своих, – я не мог не сознавать этого, – сильно ослабевших умственных сил. В периоды отдыха от большой работы стала даже являться смелая мысль о переходе к более серьезному чтению, хотя бы специально ради гимнастики мозга.
Оставалась чувствительность к скрипу пера: из-за нее приходилось иногда приостанавливать работу или письмо. Чернильница была широкая, низкая; перо обязательно скользнет по стеклу и резнет по сердцу. Заменил чернильницу высоким пузырьком, чаще стал менять перо, забивал уши ватой – как будто стало легче. Удалось освободиться от раздражающего шаркания ног на прогулке: гуляю со «слабыми» по распоряжению врача. Нас бывает от шести до девяти человек. Таким образом, я всегда могу держаться подальше от других; позволяется и сесть на скамейку, когда устанешь или когда пожелаешь пропустить мимо себя скучившихся сзади людей.
«Слабые» – это по большей части слабоумные или же тронувшиеся в тюрьме под влиянием одиночки. Первые дни такое общество было неприятно, а потом не замечалось.
Особенно хорошо стало, когда уже оказалось возможным работать с открытой форткой: вливался освежительный холодок, а с ним и уличные звуки, вытесняющие звуки тюремных свистков. Но это в ясную погоду, а в хмурую голова временами склонна была вновь слишком поддаваться мечтаниям, особенно в моменты реакции, после напряженной работы. Но любопытно, что и в этот период тюремной жизни случалось спрашивать себя с изумлением:
– Неужели я в кутузке? Вот странность!
Это случалось, когда увлечешься книгой и вдруг резко оторвешься от нее. Последнее время такой эффект получался от Гоголя, от Диккенса и от «Векфильдского священника». Доктора Примроза (из «Векфильдского священника») я долго не мог вспомнить без того, чтобы не расхохотаться вслух; Диккенс заставлял меня хвататься за бока. Временами, впрочем, смешливое настроение приходило и само, без помощи книги: я ходил по камере и вдруг разражался громким хохотом то по поводу каких-нибудь мелочей, а то и без всякого повода. А потом хохотал при мысли: «Какой же, однако, я дурак: сижу один и смеюсь без всякой причины!»
Я объяснял себе эту смешливость тем, что нервы становятся здоровее, радуются этому и передают свою радость мозгу. Что касается желудка, то его радость стояла вне сомнений, так как аппетит был волчий.
В марте зима только при появлении небесного начальства начинала плакать и прикидывалась умирающей. А чуть солнце за угол, – зима тотчас вновь спешила гвоздить, точно хотела навеки заковать в кандалы несчастную землю. Подул резкий западный ветер, пронизывал до костей, а оттепели не принес. В городе на улицах, говорят, давно уже весна, но весна дворницкая. Одно было у меня утешение – кустик редиски; я положил ее в воду, и листики из анемичных превратились в здоровые, темно-зеленые. Я ждал уже появления второй пары листьев, но растение погибло. Вскоре мне удалось заменить редиску кусочком дерна, скраденного на прогулке и помещенного в жестянку от сардинок; туда же положено было раздобытое контрабандой зернышко гороха. Ожидание всхода гороха несколько волновало меня.
Весна вступила в свои права. Я следил за черным дыханием фабрик: оно сперва стлалось низко, по направлению к югу, а затем поднялось кверху и потянулось к северу, как перелетные птицы. Вскоре и лед на Неве исчез на треть ее ширины. Наконец начался и полный ледоход. Это единственный период, когда Неву не волнуют пароходы и зеркальная поверхность ее удивительно четко отражает и прибрежные здания и уличные фонари. Получается очень красивый вид.
Мой лужок в коробке от сардинок поднялся на славу. Уже цветут на дворе лютики и готовы распуститься одуванчики. Появились мухи, потом я увидел первую бабочку, робко порхавшую над лужайкой; комар пытался проникнуть в камеру, но я прогнал его. Появились молодые неуклюжие голуби, один из них должен быть сизым, но, вероятно, у природы краски не хватило – он был так беспорядочно вымазан и подкрашен.
В пасхальную ночь надзиратели будили арестантов, крича через дверь: «Приготовьтесь в церковь!» Я тоже поднялся, хотя в церковь решил не итти: там будет все начальство и их разряженные семьи. Лучше не видеть их. У меня открыли уже окно, и приятнее походить по камере или постоять у окна. Какая богатая контрастами тема для поэта! Петербург залит огнями; на улицах возбужденная и радостная толпа. Здание тюрьмы глядит на эту суету тысячью внезапно осветившихся глаз, звенят ключи, как зубы скелета. В окно вливается свежая воздушная струя с перезвоном бесчисленных колоколов. Заключенный, измученный годами одиночки, пытается проникнуть взором в этот таинственно-заманчивый шум и чувствует… Не знаю, что полагается в это время чувствовать по мнению поэтов. Что же касается меня, то я почувствовал только стремление ко сну. Делал усилие, как в детстве, чтобы веки сидели врозь, но они не послушались. Я не слыхал, как арестанты прошли в церковь.