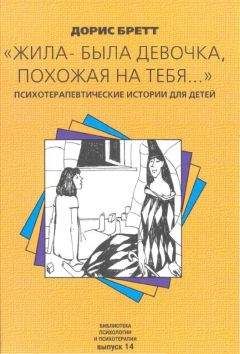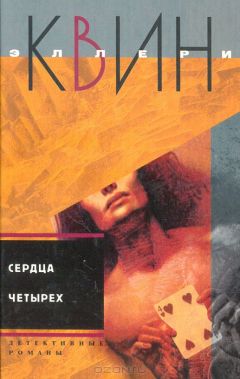Павел Фокин - Блок без глянца
Мария Андреевна Бекетова:
Весной этого (1910-го. – Сост.) года Ал. Ал., получивший перед тем наследство от недавно скончавшегося отца, задумал ремонтировать шахматовский дом. Он приехал для этого в Шахматово с женой в апреле и торопился окончить ремонт к возвращению матери из санатории. Он положил на это дело не только большие деньги, но и много труда, изобретательности и энергии. Ремонт был сделан основательно и очень удачно. Старый дом преобразился и похорошел, не утратив своего стиля. Все было обновлено, разукрашено, а кое-что и преобразовано, так как над боковой пристройкой, где поселилась Люб. Дм., был возведен целый этаж, в котором помещалась новая Сашина комната. Все эти новости приятно поражали всякого, кто входил в дом, зная, каким он был до перестройки. Не было человека, который бы не одобрил Сашину работу и новые выдумки. Мать же, для которой он особенно старался, приняла все это болезненно, с тем особым чувством, которое свойственно всем психически больным, когда им приходится менять место и привыкать к новым впечатлениям. Сначала она ничего не воспринимала и только мучительно ежилась, как от струй холодного сквозного ветра. Только значительно позже, когда она привыкла к новой обстановке, она оценила всю прелесть обновленного дома. А тут еще оказались новые люди, новые порядки: целая артель маляров, кончавших наружную окраску дома, новый управляющий с семьей, нанятый Сашей и Любой, новые затеи в сельском хозяйстве, задуманные Любовью Дм., Ал. Андреевна совершенно растерялась. Все это принимала она трагически, с некоторой опаской и недоверием. Люб. Дм., взявшая на себя хозяйство, была совершенно неопытна, Ал. Андр., конечно, могла бы дать ей не один хороший совет, но взгляды их на ведение этого дела были диаметрально противоположны, так что взаимное обсуждение хозяйственных вопросов и мнения, высказываемые Ал. Андреевной, порождали только одни недоразумения и неудовольствия. Все это портило отношения, и лето вышло очень тяжелое.
Мария Андреевна Бекетова:
В свою комнату Ал. Ал. привез старинный блоковский письменный стол еще крепостной работы. Этот стол достался ему от отца. В нем были секретные ящики, где Блок сохранял письма жены, ее портреты, некоторые рукописи и, между прочим, девичий дневник Любовь Дмитриевны. Все эти неоцененные вещи пропали теперь безвозвратно. В 1917 году соседние крестьяне сломали стол, и от того, что было спрятано внутри, осталось некоторое количество бумаг самого незначительного содержания. Куда пошло остальное – неизвестно.
В эту осень мы с сестрой уехали из Шахматова поздно, в половине октября. Блоки остались вдвоем. Ал. Ал. тотчас же нанял колодезника – рыть новый колодезь. Водяной вопрос всегда был слабым местом в Шахматове. Не раз и отец пробовал рыть колодцы, рыли в разных местах и на большую глубину и, истратив изрядную сумму денег, бросали это дело, потеряв надежду на воду. В Шахматове был колодезь, но ездить с бочкой приходилось под гору, далеко от усадьбы. Блок решил попробовать еще раз. Но и тут повторилась та же история. И в конце концов пришлось упорядочить старый водоем – почистить его и поставить новый сруб для воды.
Владимир Владимирович Маяковский (1883–1930), поэт, художник:
Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед Зимним костра. Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до Детского подъезда. Спрашиваю: «Нравится?» – «Хорошо», – сказал Блок, а потом прибавил: «У меня в деревне библиотеку сожгли».
Сын
Софья Николаевна Тутолмина:
Помню, как Саша в ранние годы встречался у нас со своим отцом. Отец любил его, расспрашивал об университетских делах, и они подолгу просиживали рядом за столом. Саша прямой, спокойный, высокий, несколько «навытяжку», отвечал немногословно, выговаривал отчетливо все буквы, немного выдвигая нижнюю губу и подбородок. Отец сидел сгорбившись, нервно перебирая часовую цепочку или постукивая по столу длинными желтыми ногтями. Его замечательные черные глаза смотрели из-под густых бровей куда-то в сторону. Иногда он горячился, но голоса никогда не повышал.
Однажды Александр Львович, приехав из Варшавы, сейчас же вызвал сына: «Ты должен выбрать себе какой-нибудь псевдоним, – говорил он Саше, – а не подписывать свои сочинения, как я – „А. Блок“. Неудобно ведь мне, старому профессору, когда мне приписывают стихи о какой-то „Прекрасной даме“. Избавь меня, пожалуйста, от этого». Саша стал подписываться с тех пор иначе.
Александр Александрович Блок. Из письма В. Я. Брюсову. Петербург, 1 февраля 1903 г.:
Имею к Вам покорнейшую просьбу поставить в моей подписи мое имя полностью: Александр Блок, потому что мой отец, варшавский профессор, подписывается на диссертациях А. Блок или Ал. Блок, и ему нежелательно, чтобы нас с ним смешивали.
Екатерина Сергеевна Герцог (1884 – после 1955), поэт, переводчик, дочь профессора С. Герцога, сослуживца А. Л. Блока по Варшавскому университету:
На одной из своих книг А. А. сделал надпись отцу: «Моему отцу по духу». Это «по духу» очень возмутило А. Л. и давало темы его многим комментариям. Все-таки, говорил он нам, горько улыбаясь, не только же я по духу ему отец.
Георгий Петрович Блок:
Мне памятны рассказы моего отца о встречах с Блоком в Варшаве на похоронах Александра Львовича. Мой отец вернулся оттуда очарованный Сашей: много говорил о том, с каким тактом, достоинством и мягкостью вел себя Блок в трудной обстановке погребальных церемоний, в общении со множеством незнакомых и неприятных ему лиц. В жизни Блока эти трагические варшавские дни были одними из самых решающих. Мне передавали, что Блок по дороге на кладбище поглаживал уже запаянный гроб отца. В эти минуты он впервые, должно быть, понял, чем был и чем мог стать для него отец, которого при жизни он проглядел.
Александр Александрович Блок. Из письма матери. Варшава, 4 декабря 1909 г.:
‹…› Сегодня были похороны, торжественные, как и панихида. Из всего, что я здесь вижу, и через посредство десятков людей, с которыми непрестанно разговариваю, для меня выясняется внутреннее обличье отца – во многом совсем по-новому. Все свидетельствует о благородстве и высоте его духа, о каком-то необыкновенном одиночестве и исключительной крупности натуры. ‹…› Смерть, как всегда, многое объяснила, многое улучшила и многое лишнее вычеркнула.
Евгения Федоровна Книпович: