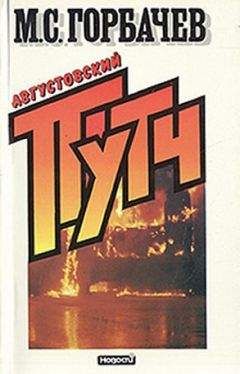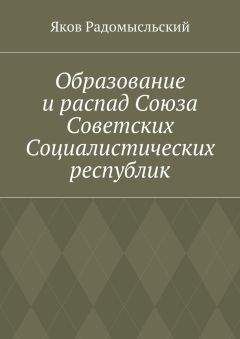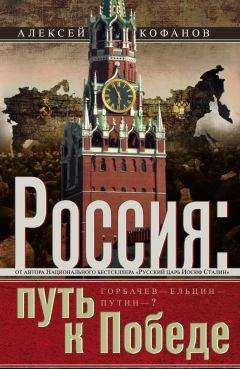Джек Мэтлок - Смерть империи
Григорий Бакланов, назначенный в «Знамя», также был известным романистом. Вместе с героями его произведений (в основном, о войне) советские читатели сталкивались с подлинными жизненными проблемами и моральными дилеммами, созданными коммунистической системой. Можно было быть уверенным, что, если только у Бакланова руки не окажутся связанными, «Знамя» сделается заметным средоточием мнений по вопросам духовного нездоровья общества.
Я не был знаком с новыми редакторами «Известий» и «Московских новостей», Иваном Лаптевым и Егором Яковлевым, а потому понятия не имел, чего от них ожидать. В то время как «Известия» были центральной правительственной газетой и таили в себе большие возможности, на «Московские новости» никто и внимания не обращал. Ее считали пропагандистским органом для иностранцев (у газеты были издания на английском, французском, немецком, испанском и некоторых других языках), и русские ее читали мало, хотя и выходило небольшое издание на русском языке, вероятно, для того, чтобы моноглоты–чиновники из пропагандистского аппарата партии имели возможность следить за тем, что скармливалось чужестранцам.
Впрочем, уже вскоре обе эти газеты оказались на гребне популярности и, когда называлась фамилия «Яковлев», то у произнесшего ее уточняли: «Который из них, Александр или Егор?» Они не состояли в родстве, но оба сделались ключевыми фигурами гласности.
————
Кинодеятели вышвырнули клевретов партии, поддерживавших «дисциплину» в Союзе кинематографистов, и заменили их наиболее талантливыми из своих коллег, также являвшимися активистами реформ. Советские телезрители время от времени с удивлением взирали на экран, откуда какой–нибудь иностранный деятель возглашал идеи, отличавшиеся от официальной линии. Начали издаваться и ставиться на сцене давным–давно запрещенные произведения.
В то время как проблески некогда запретных тем озаряли страницы печати, изредка приоткрывались и ворота тюремных лагерей, выпуская на волю одного–двух политических заключенных. Андрей Сахаров, намного превосходящий всех известностью критик режима, все еще томился в ссылке в волжском городе, звавшемся тогда Горьким, но прежде — и вскоре ставшем опять — известным как Нижний Новгород. 15 декабря в квартире Сахарова поздно вечером появились агенты КГБ и торопливо установили телефон, прежде снятый ими для усиления изоляции ссыльного. Наследующий день позвонил лично Горбачев и сообщил Сахарову, что тот может возвратиться к себе домой в Москву.
В конце 1986 года советские руководители, борясь с принципами, которые отсутствовали в коммунистической практике с 20–х годов, трижды, не достигнув согласия, откладывали запланированный пленум Центрального Комитета партии. Вопросы были основополагающими: можно ли наладить экономику, не прибегая к политической реформе, и можно ли говорить о политической реформе, не предавая всего, на чем зиждилась и что защищала система?
В конце концов пленум был проведен в конце января 1987 года, и Горбачев удивил наблюдателей своим радикализмом. Он обозначил этап раз–вития страны как этап «развивающегося социализма», а не повторил известную брежневскую формулировку — «развитой социализм». Он даже одобрительно отозвался о «подлинных выборах» и тайном голосовании. Всего несколькими годами ранее такие речи могли стоить партийному деятелю его поста, а то и, в случае повторения, довести до тюрьмы либо сумасшедшего дома.
Когда в январе Горбачев представил эти, все еще весьма общие, соображения Центральному Комитету, они были встречены скорее с удивлением, нежели с прямым неприятием. Все еще крайне живуча была привычка считаться с мнением генерального секретаря и избегать впрямую ставить под вопрос предлагавшееся им. Многие, возможно, сочли, что предложения Горбачева призваны усилить в общественном сознании его облик реформатора и не предназначались для конкретного осуществления на практике. А если суть их только в том и состояла, то не было никакого вреда в том, чтобы потрафить генеральному секретарю.
И все же Горбачев, не переставая развивать свои идеи весной, вернулся к теме на следующем пленуме Центрального Комитета, созванного в июне в полном составе. Теперь уже публика обратила внимание: а вдруг это нечто большее, чем периодические кампании в прошлом? Правоверные партийцы стали задаваться вопросом: неужели он все это всерьез? А если всерьез, он что, не понимает, что подобные идеи способны подорвать авторитет Коммунистической партии, единственного надежного инструмента управления страной?
На пороге перестройки
Мы, иностранные наблюдатели, стали замечать разницу. В 1986 году в нас сильны были надежды, что Горбачев на деле покажет себя советским руководителем иного типа, таким, кто к подлинным интересам своей страны отнесется серьезнее, чем к идеологическим абстракциям, таким, кто выкажет волю и привнесет больше прагматизма в переговорный процесс. Прошедшие в Женеве и Рейкьявике встречи на высшем уровне предрасположили нас к его обаянию и его велеречивости. Его политика в отношении контроля за вооружениями, похоже, претерпевала изменения.
Что же до домашних дел, однако, то политика Горбачева мало чем отличалась от спорадических периодов «реформ» в прошлом. Хрущевская оттепель покончила с некоторыми крайностями сталинизма, но затем сама собою прекратилась еще до того, как ее инициатор был смещен. В 60–е годы много внимания уделялось предложениям упорядочить управление экономикой, получившим название «реформ Либермана», однако вскоре они были забыты. Широковещательная программа улучшения снабжения продовольствием 70–х годов также завершилась ничем.
Была ли внутренняя политика Горбачева существенно иной? До января 1987 года ответ был однозначен: нет. Политические инициативы 1985 и 1986 годов весьма походили на прежние неудачи: попытки кое–что поверхностно подправить в системе, чьи недуги и пороки были врожденными. Они напоминали попытку смирить акулу, удалив у нее один или пару зубов. Если систему не изменить (или не уничтожить), она попросту пожрет все усилия изменить ее «по кусочкам».
Однако предложенное Горбачевым в 1987 году было направлено на самое систему. Опыт первых двух лет у власти убедил его, что лишь нажим снизу способен гарантировать перемены, предписываемые им сверху. Теперь он видел, что самое система сопротивляется перемене и что приказов сверху недостаточно. В ходе встреч, на которых я присутствовал, в 1987 и 1988 годах он временами предавался размышлениям на эту тему.
«Во всей нашей истории, — говорил он (я пересказываю по памяти), — перемены приходили сверху. И всегда утверждались силой. Нынче применить силу я не могу, иначе я сокрушу самое цель, Нельзя навязать народу демократию, можно лишь предоставить ему возможность пользоваться ею. То, что мы пытаемся сделать, беспрецедентно. Мы должны всю русскую историю перевернуть с ног на голову. Мы должны обучить наших людей самим править собой — а этого им не дозволялось во всей нашей истории».