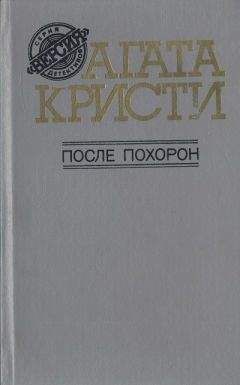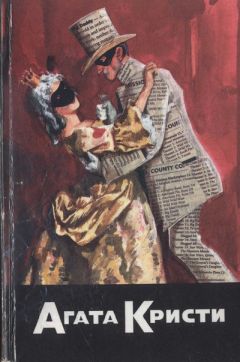Владимир Набоков - Временное правительство и большевистский переворот
После всего сказанного едва ли кто заподозрит меня в пристрастии, если я все-таки не могу присоединиться к тому потоку хулы и анафематствования, которым теперь сопровождается всякое упоминание имени Керенского. Я не стану отрицать, что он сыграл поистине роковую роль в истории русской революции, но произошло это потому, что бездарная, бессознательная бунтарская стихия случайно вознесла на неподходящую высоту недостаточно сильную личность. Худшее, что можно сказать о Керенском, касается оценки основных свойств его ума и характера. Но о нем можно повторить те слова, которые он недавно — с таким изумительным отсутствием нравственного чутья и элементарного такта — произнес по адресу Корнилова. «По-своему» он любил родину, — он в самом деле горел революционным пафосом, — и бывали случаи, когда из-под маски актера пробивалось подлинное чувство. Вспомним его речь о взбунтовавшихся рабах, его вопль отчаяния, когда он почуял ту пропасть, в которую влечет Россию разнузданная демагогия. Конечно, здесь не чувствовалось ни подлинной силы, ни ясных велений разума, но был какой-то искренний, хотя и бесплодный, порыв. Керенский был в плену у своих бездарных друзей, у своего прошлого. Он органически не мог действовать прямо и смело и, при всем его самомнении и самолюбии, у него не было той спокойной и непреклонной уверенности, которая свойственна действительно сильным людям. «Героического» в смысле Карлейля в нем не было решительно ничего. Самое черное пятно в его кратковременной карьере — это история его отношений с Корниловым, но о ней я говорить не буду, так как знаю только то, что общеизвестно.
К Керенскому мне придется еще не раз вернуться на протяжении моего рассказа. Покамест ограничиваюсь написанным и перехожу к другому лицу, на которое вся Россия возлагала такие колоссальные ожидания и которых он не оправдал.
Я знал кн. Г. Е. Львова со времени 1-ой Думы. Хотя он числился в рядах партии народной свободы, но я не помню, чтобы он принимал сколько-нибудь деятельное участие в партийной жизни, в заседаниях фракции или центрального комитета. Думаю, я не погрешу против истины, если скажу, что у него была репутация чистейшего и порядочнейшего человека, но не выдающейся политической силы. Он, после роспуска 1-ой Думы, также был в Выборге, но не принимал участия в совещаниях и не подписал воззвания. Я помню, что он остановился в тех же номерах, в которых жил я и Д. Д. Протопопов, тотчас по приезде заболел и не выходил из номера до отъезда из Выборга. Протопопов приписывал болезнь тому волнению, в котором он находился. Подобно многим из нас, он в душе не сочувствовал воззванию, не верил в него, считал его ошибкой, но сознавал свое бессилие воспрепятствовать ему, не имея никакого другого приемлемого и яркого плана действий. Помню его бледное расстроенное лицо, его беспомощную фигуру. С тех пор я его 11 лет не встречал. Как и все, я считал его отличным организатором, возлагал большие упования на его огромную популярность в земской России и в армии. Выше я уже упомянул о впечатлении, произведенном на меня первой встречей с кн. Львовым в Таврическом дворце, в день конституирования Вр. Правительства. Я бы сказал, что это впечатление было пророческое. Правда, в ближайшие дни кн. Львов внешне преобразился, загорелся какой-то лихорадочной энергией и, как мне казалось, — по крайней мере в первое время, — какой-то верой в возможность устроить Россию.
Задача министра-председателя в первом Вр. Правительстве была действительно очень трудна. Она требовала величайшего такта, уменья подчинять себе людей, объединять их, руководить ими. И, прежде всего, она требовала строго определенного, систематически осуществляемого плана. В первые дни после переворота авторитет Вр. Правительства и самого Львова стоял очень высоко. Надо было воспользоваться этим обстоятельством, прежде всего, для укрепления и усиления власти. Надо было понять, что все разлагающие силы наготове начать свою разрушительную работу, пользуясь тем колоссальным переворотом в психологии масс, которым не мог не сопровождаться политический переворот, так совершенный и так развернувшийся. Надо было уметь найти энергичных и авторитетных сотрудников и либо самому отдаться всецело Министерству Внутренних Дел, либо — раз оказывалось невозможным по-настоящему совмещать обязанности министра внутренних дел с ролью премьера, — найти для первой должности настоящего заместителя.
Я не хочу сказать ничего пренебрежительного, — а тем паче — дурного о Д. М. Щепкине или о кн. С. Д. Урусове, но я думаю, что от них трудно было ожидать того, чего не мог дать сам кн. Львов. Щепкин — добросовестнейший и трудолюбивейший работник, прекрасный человек, полный энергии и bonne volonte. Но он не мог импонировать ни опытом, ни общественным авторитетом, ни личной своей индивидуальностью, — сам это прекрасно сознавал и в самостоятельных действиях был парализован этим сознанием. Князь Урусов, видимо, совершенно растерялся в новой обстановке, плохо ориентировался, чувствовал себя совершенно не на месте. Как-никак вся его бюрократическая карьера протекла в условиях, радикально противоположных тем, в которых он очутился. И он прошел какой-то бледной тенью, тоже одушевленной самыми лучшими намерениями, но бессильной их осуществить. И он смог бы быть помощником и исполнителем, во нельзя было от него ожидать решимости, инициативы, творчества.
То обстоятельство, что Министерство Внутренних дел — другими словами, все управление, вся полиция — осталось совершенно неорганизованным, сыграло очень большую роль в общем процессе разложения России. В первое время была какая-то странная вера, что все как-то само собою образуется и пойдет правильным, организованным путем. Подобно тому, как идеализировали революцию («великая», «бескровная»), идеализировали и население. Имели, например, наивность думать, что огромная столица, со своими подонками, со всегда готовыми к выступлению порочными и преступными элементами, может существовать без полиции, или же с такими безобразными и нелепыми суррогатами, как импровизированная, щедро оплачиваемая милиция, в которую записывались профессиональные воры и беглые арестанты. Всероссийский поход против городовых и жандармов очень быстро привел к своему естественному последствию. Аппарат, хоть кое-как, хоть слабо, но все же работавший, был разбит вдребезги. Городовые и жандармы во множестве пошли на пополнение большевистских рядов. И постепенно в Петербурге и в Москве начала развиваться анархия. Рост ее сразу страшно увеличился после большевистского переворота. Но сам переворот стал возможным и таким удобоисполнимым только потому, что исчезло сознание существования власти, готовой решительно отстаивать и охранять гражданский порядок.