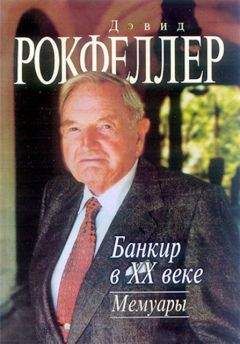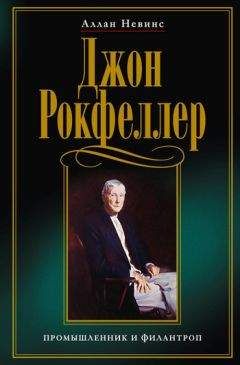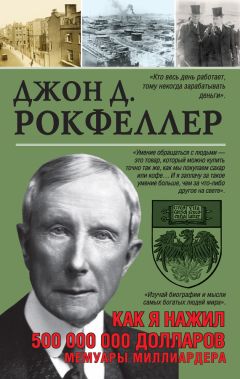Владимир Войнович - Дело № 34840
Но самая большая вспышка моей гражданской активности была связана с Солженицыным. Когда его исключали, когда его преследовали, я почти физически ощущал, что, оставаясь в Союзе писателей, по справедливости должен быть причислен к преследователям. Когда над Солженицыным сгущались тучи, когда начиналась газетная травля (а шум от нее многократно усиливался «голосами»), я, возбужденный ею, за его жизнь иногда так боялся, как (читателю этих заметок придется поверить мне на слово) ни тогда, ни потом не боялся за свою собственную.
Вот когда его арестовали, когда я думал, что его неизбежно посадят, тогда и настал в моей жизни тот единственный момент, в который я готов был взять портрет Солженицына и выйти с ним даже в одиночку на Красную площадь.
Но власти распорядились с неожиданной для них разумностью: Солженицына не посадили, а вывезли в безопасную жизнь. Пар из котла выпустили, взрыва не получилось. Ко всеобщему, как я заметил, удовольствию. К моему тоже.
У меня это событие совпало с исключением меня из Союза писателей. Я еще кипел, кидался Солженицына защищать и даже возвел его в сан величайшего, но тут же понял, что хватил лишку, величайшему уже ничто не грозит, а вот о своей голове, какая бы она ни была, пора самой этой головою подумать.
Надо сказать, что еще и до этого какие-то высказывания и поступки Солженицына вызывали мое не только почтение, но и иронию, и поводов для нее хватало.
В тот вечер (13 февраля 1974 года), когда Солженицына арестовали, мы (Бенедикт Сарнов, Владимир Корнилов и я) были у него на квартире, а несколько дней спустя Виктор Некрасов затащил меня проведать собиравшую чемоданы Наталью. Само по себе посещение никакого рассказа не стоит, но стоит телефонный звонок из Цюриха.
Наталья Дмитриевна, поговорив с мужем, передала телефон Некрасову, тот (конечно, он был, как, впрочем, и я, не совсем трезвым) прокричал в трубку что-то ободряющее, затем сказал:
– Вот здесь Володя Войнович, он тоже хочет с тобой поговорить.
На самом деле я вовсе этого не хотел. Обязанность говорить общие слова меня всегда угнетает, а необщих у меня не было. Солженицын, видимо, тоже к разговору со мной не стремился, и, должно быть, по той же мне очень понятной, причине. Это нехотение он Некрасову как-то выразил, но Вика замялся, смутился (он-то человек деликатный) и сунул мне трубку.
Я в трубку сказал «алло» и задал глупый вопрос: «Ну, как вы там?» На что мне было тут же провозглашено: «Володя, мое сердце с вами, мое сердце в России».
Великие люди так и должны отвечать, но я не люблю великих высказываний, а к тем, которые заведомо рассчитаны на скрижали истории, отношусь с непочтительной насмешкой. Но великие люди всегда смеются последними, их великие высказывания, несмотря на реакцию отдельных невеликих насмешников, все-таки на скрижали заносятся, и потом, в течение десятилетий, а иногда и побольше, школьные учителя, ссылаясь на свидетельства вроде данного, с благоговением вдалбливают скисающим от таких слов ученикам, как великий имярек никогда не порывал своей связи с Родиной и всегда повторял: «Мое сердце в России!»
Мы с Некрасовым пробыли в разоренной квартире недолго, после чего нам обоим в качестве почетных даров были вручены по две фотографии, в большом количестве отпечатанные и приготовленные для поощрения отважных посетителей опального жилища. Я эти фотографии немедленно кому-то отдал. Я храню (в беспорядке) снимки только очень мне близких или случайных людей, а изображения великих и культовых личностей не держу. Ни на стене, ни на столе я никогда не держал не только ни Ленина или Сталина, но и ни Пушкина, Толстого, Маяковского, Хемингуэя, Пастернака, Ахматову. Одно время я попытался приспособить к своей стене карточку Сахарова, но и она у меня не прижилась.
К моменту изгнания Солженицына культ его достиг уже высшей точки, и не только в соотечественной среде. В те дни приезжавшие в СССР иностранцы, за исключением некоторых, знали, что на этой территории находятся Советский Союз, Брежнев, КГБ, Солженицын, и это, кажется, все. Остаточные люди, которые здесь иностранцам встречались, подтверждали, что все так и есть.
Незадолго до того я встретился на каком-то приеме с новым корреспондентом «Вашингтон пост» Питером Осносом и спросил его, о чем он собирается здесь писать. Он сказал, что собирается писать о многом, в том числе о русской литературе, о которой на Западе люди не имеют ни малейшего понятия и думают, что здесь нет никого, кроме Солженицына. Я подумал, перебрал в уме известные мне названия книг и имена авторов и сказал, что, пожалуй, люди на Западе правы: здесь никого, кроме Солженицына, нет. Потому что он, единственный, совершенно пренебрегал всеми правилами писания (начиная с синтаксиса) и поведения, принятыми в советской литературной среде.
Но мое суждение имело все-таки претензию на некий парадокс. А многие иностранцы то же самое понимали буквально.
Когда настала очередь мне самому быть изгнанным из Союза писателей, многие иностранные корреспонденты сообщили, что я исключен оттуда как друг Солженицына. Не представляя себе того, что я могу быть интересен сам по себе. С этой, не заслуженной мною репутацией «друга Солженицына» я боролся долго, настойчиво, лет примерно пятнадцать и кое-каких успехов за это время добился. Хотя и сейчас в публикуемых где-нибудь моих биографических данных указывается, что я претерпел много лишений, главным образом, за поддержку Солженицына.
С изгнанием Солженицына одна из причин моего внешнего «диссидентства» почти полностью отпала. Конечно, некоторых людей еще продолжали сажать, и это, говоря красиво, отзывалось в душе моей болью, но, не имея возможности остановить зло, я готов был успокоить себя тем, что я это зло не принимаю вообще. Мне казалось, довольно один раз в жизни сказать, что я отношусь к насилию с большим и неизменным отвращением, и это должно быть всем ясно даже тогда, когда я молчу.
Сказать это один раз и навсегда. А повторяться не обязательно.
В конце концов диссидентом может быть каждый и «другом Солженицына» тоже, а «Чонкина» без меня никто не напишет.
В постсоветской печати я читал о себе, и не раз, мнение, что все мое диссидентство было кратким и точно рассчитанным путем к отъезду. С людьми, которые это утверждают сознательно или по ошибке, я полемизировать не буду. Но тем, кому интересна правда, скажу, что меня исключили из Союза писателей 20 февраля 1974 года. А уехал я за границу (с советским паспортом) 21 декабря 1980 года. В течение прошедших почти семи лет мне много раз и довольно грубо намекали, чтоб я убрался. Я свое противостояние в заслугу себе не ставлю, и больше того, если бы можно было задним числом исправить биографию и не будь я связан со всеми своими родными и близкими, то уехал бы еще году в шестьдесят восьмом. И нисколько бы этого не стеснялся. Но в своей реальной неисправленной жизни я ни в шестьдесят восьмом, ни в семьдесят пятом об отъезде даже и помыслить не мог, а ситуация у меня оказалась совсем тупиковая.