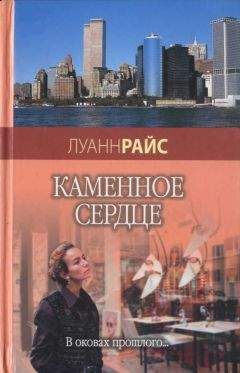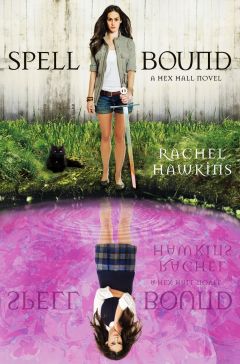Мария Белкина - Скрещение судеб
Тарасенков мог на пляже, в редакции, в гостях затевать эту игру, которая тянулась часами, увлекая участников. Случалось, от истинных поэтов переходили к рифмачам, стихоплетам, начинались курьезы. Тарасенков почти всегда выходил победителем, ибо в его памяти стихи были заложены, как в электронной машине. Под конец он приберегал «тяжелую артиллерию» и пускал ее в ход, когда видел, что участники игры уже выдохлись; тогда он читал:
Обвивает вкруг нее
Он со страстью дикой руки,
«О сокровище мое,
Ты дрожишь в предсмертной муке!»
Никто продолжить стихов не мог. Тарасенков уверял, что автора все отлично знают, он широко известен, — начинали перебирать имена декадентов, но никто не угадывал. Просили прочесть стихи до конца, но и это не помогало, и, когда все сдавались, Тарасенков объявлял, предвкушая эффект: «Карл Генрих Маркс!»
Марину Ивановну он тоже доконает этой строфой, но уже позже, на Конюшках, правда, то, что это стихи самого Карла Маркса, на нее не произведет ожидаемого впечатления, и она с полным равнодушием скажет:
— Поэта бы из него не получилось, это сразу видно…
Но тогда на Герцена ниже стратосферы истинной поэзии Марина Ивановна и Тарасенков не спускались. У меня в записях значится: читали Блока, Пушкина, Тютчева, Пастернака, Ахматову.
— Марина Ивановна, вы забыли про чайник, — произнес Мур.
— Ах, да!
Она вышла на кухню и принесла огромный чайник.
— Отличный чайник, — сказала она, — никогда не выкипает до дна…
На столе стояли приготовленные стаканы в подстаканниках, какая-то странная из темного металла чашка с блюдцем и открытая пачка печенья. Марина Ивановна сказала, что нальет мне в свою любимую чашку, а сама будет пить из стакана. Я по рассеянности и от смущения, которое все еще не оставляло меня, не сообразила, что металл от кипятка нагревается, и, хлебнув чай, обожгла губы о края чашки.
Мур это заметил.
— Я же вам говорил, Марина Ивановна, — сказал он, — ни один нормальный человек не может пить из этой чашки.
— Да? — пожала плечами Марина Ивановна. — Но Нина[4] уверяет, что она тоже любит пить чай именно из этой чашки.
— Она это говорит исключительно для того, чтобы сделать вам приятное, — отчеканил Мур и, протянув руку, взял с подоконника стакан и поставил его передо мной:
— Перелейте сюда.
Но я решила поддержать ту, неизвестную мне тогда еще Нину, а главное, Марину Ивановну и стала уверять, что мне тоже нравится пить чай из такой чашки и что у меня дома есть такая же. Мне, и правда, отец подарил в детстве похожую, мода, что ли, была на такие чашки, но пить из нее чай было совершенно невозможно, а так как она была серебряная и внутри позолоченная, то и отлеживалась чаще всего в ломбарде.
Потом Марина Ивановна читала стихи, свои. Получилось это как-то само собой, никто ее не успел попросить, просто начала читать. Читала спокойно, без завывания, взлетов, придыхания, как многие поэты, читала ровно, четко, не проглатывая концы строф, не глядя ни на кого. Мур уткнулся в книгу, он, видно, слышал те стихи уже не раз, и ему было неинтересно. Я не умею ловить стихи на слух и всегда предпочитаю, чтобы сама, глазами, но она читала так просто, что все доходило.
Потом мы пошли пройтись, в комнате было душно. Тарасенков за спиной Марины Ивановны и Мура показал мне глазами на сумочку, я выгребла и незаметно передала ему все содержимое, и он пригласил нас зайти в кафе Националь выпить кофе и съесть мороженое. Мы еще несколько раз заходили сюда, на улицу Герцена, за Мариной Ивановной и вели ее в это кафе, благо оно было в двух шагах, а потом бродили по улицам. Но чаще всего мы встречались у нас на Конюшках.
ГДЕ СПЯТ ОВЕЯННЫЕ ТАЙНОЙ ОСОБНЯКИ
Конюшки… «Жизнь вернулась так же беспричинно, как когда-то странно прервалась. Я на той же улице старинной, как тогда, в тот летний день и час…» Конюшки. Не надо путать со Староконюшенным на Арбате. Староконюшенный еще существует. Конюшков больше нет. Их можно воскресить только в памяти… Они были расположены у подножья высотного дома, того, что стоит теперь на площади Восстания, Кудринской площади. Если встать к этому дому лицом, то с левого края, с баллюстрады, внизу откроется взгляду грандиозная стройка. Ничего не осталось от планировки старых улиц — все сплошь застроено высокими домами, одни уже воздвигнуты, другие поднимаются. От прежних Конюшков только узенький тротуарчик сбегает вниз под горку от площади — это кусок коротенького Кудринского переулочка, он загибает в Малый Конюшковский и тут же упирается в стройку. И вдруг… Среди навала гигантских плит, кирпичей, труб — тополь! Еще стоит, зажатый со всех сторон, поредевший, чахнущий там, где когда-то на стыке двух Конюшковских — Большого и Малого — так пышно разросся над деревянным особнячком…
Конюшки… Если перенестись в отдаленные от нас времена и представить себе, что вместо площади Восстания на горе живописно раскинулась деревушка Кудрино (от чего потом и получила название площадь, переименованная после революции в площадь Восстания), а вокруг, там, где Пресня, Арбат, Садовая, — леса, болота, луга, то в сторону Смоленской, может, там, где теперь американское посольство, а может, чуть дальше стоял Новинский монастырь. А за спиной монастыря, внизу, под горкой расположился монастырский конюшенный двор; от него и пошли Конюшки.
В мое время в районе этого конюшенного двора, параллельно Новинскому бульвару, нынешней улице Чайковского, начинаясь от Девятинского переулка, где стояла да и теперь еще стоит церковь Девяти Мучеников, шел Большой Конюшковский переулок, другим концом своим, обтекая горку (летом зеленую, зимой ледяную, и с нее можно было скатываться на салазках прямо к нашему парадному!), упирался в старые строения, а когда на площади поставили небоскреб — в его каменный фундамент, в его гаражи. Это был тупик. А под углом к Большому Конюшковскому переулку, от площади Восстания, не выходя на нее, от Кудринского переулка, от заднего фасада пятиэтажного дома, в грязной подворотне которого мы однажды спасались с Мариной Ивановной во время бомбежки, вбегал вниз по булыжникам, обтекая горку с другой ее стороны, Малый Конюшковский переулок, пересекая Большой Конюшковский и ниже вливаясь в Конюшковскую улицу, ведущую к зоопарку.
Но чтобы выбраться из плена всех этих Конюшковских тупиков и горбатых, кривоколенных изгибов старой Москвы, надо было еще свернуть из Малого Конюшковского в совсем уже коротенький, всего пять домов, Кудринский переулочек, вот он-то и выводил Конюшки на площадь Восстания, как раз напротив улицы Воровского-Поворской. Одна сторона этого Кудринского переулка уцелела, с ее угла и начинается нынешняя магистраль — улица Чайковского, которая ведет к Смоленской площади.