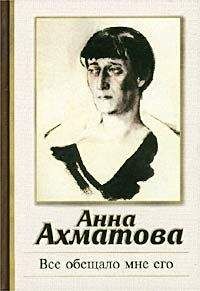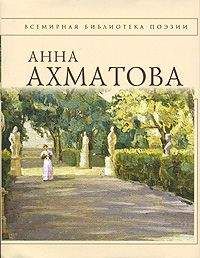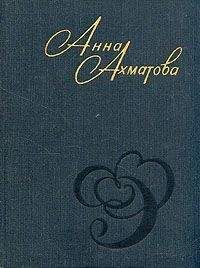Невероятная жизнь Анны Ахматовой. Мы и Анна Ахматова - Нори Паоло
Поэзия не самый надежный источник биографических фактов, но, по мнению многих биографов, как минимум одно стихотворение из «Вечера» навеяно ссорой Ахматовой и Гумилёва.
Должно быть, жить с Ахматовой было нелегко. Как и любой из нас, к слову сказать, она умела быть доброй, ей очень нравилось делать подарки. Однажды, получив гонорар за переводы, она подарила автомобиль Алексею Баталову [34], у родителей которого подолгу жила в Москве, и это в пятидесятые годы, когда личных машин в СССР почти ни у кого не было! (Не могу не отметить, что в Советском Союзе, при всех его недостатках, переводчикам платили очень хорошо.)
Анатолий Найман пишет, что Ахматова часто повторяла: «Добро делать очень трудно; зло делать просто, а добро очень трудно».
Как и все мы, она делала и то и другое.
5.10. Критик
Владимир Дувакин (1909–1992) – русский критик, страстный исследователь поэзии начала двадцатого века – того периода, который назвали Серебряным веком русской поэзии по аналогии с Золотым веком начала девятнадцатого столетия.
Пятнадцать лет жизни Дувакин посвятил созданию фонда звуковых мемуаров о великих русских поэтах первой половины двадцатого века [35].
В восьмидесятые годы вышла серия книг, в основу которых легли расшифровки сделанных им аудиозаписей. Одна из этих книг была посвящена Анне Ахматовой.
Первое стихотворение Ахматовой, которое мы встречаем на страницах этой книги (она называется «Анна Ахматова в записях Дувакина» и вышла в Москве, в издательстве «Наталис» в 1999 году), звучит так:
5.11. Еще один критик
Среди тех, с кем общался Дувакин, был и Михаил Бахтин, автор потрясающих книг о Фёдоре Михайловиче Достоевском. Бахтин познакомился с Ахматовой, когда она только начала печататься.
«Я, – отмечает Бахтин, – заметил в ней известную заносчивость. Она, так сказать, немножко сверху вниз смотрела на обыкновенных людей… Так ощущала: все люди делились на интересных и на неинтересных… Это потом я уже слышал от других, которые имели с ней дело, уже и в старости ее эта заносчивость в ней осталась, даже приняла крайние формы: когда, например, приезжали к ней из редакции, работники редакции, то она даже и не отвечала на поклон, не сажала их. Они стояли перед ней, она, не глядя на них, делала соответствующие там заметки, соглашалась или не соглашалась с редакционными замечаниями, но, повторяю, совершенно не принимала их как людей.
Вот. Это в ней было. Может быть, конечно, кто же знает, какие те воспоминания, они же очень так… случайные и субъективные. Может быть, они приходили, когда она была в плохом состоянии: ведь ее травили, все время, до последних дней ведь ее травили. И вот она была, может, как раз в тот момент, когда эта травля особенно сильно ощущалась… Но нужно сказать, что я и от других слышал, от очень многих слышал вот об ее такой заносчивости и даже некоторой грубости, я бы сказал».
6. Некоторые поэты
6.1. Поэт
«Ты поэт», – сказал Гумилёв Анне Ахматовой.
Нам, итальянцам двадцать первого века, трудно понять, что значило быть поэтом в России двадцатого века.
6.2. А у вас не так?
В начале мая я отправился на фестиваль «Мачерата ракконта» [36].
Покупая билет на поезд, для разнообразия я выбрал вагон с «зоной тишины». И вот мы едем уже двадцать минут, а тишина еще так и не наступила.
Сначала кто-то из пассажиров разговаривал по телефону: один звонок, другой. В его фирме произошло какое-то ЧП – за все годы его работы ничего подобного не случалось.
Несколько раз меня так и подмывало встать и элегантным жестом указать ему на оконное стекло с изображением головы – палец прижат к губам, показать надпись ниже: «Зона тишины» на итальянском и на английском языках – на тот случай, если он вдруг окажется англичанином (он не был англичанином – он был апулийцем [37]), а также на рисунок мобильного телефона, перечеркнутого красной линией, – символ, как я думал, абсолютно понятный и англичанину, и апулийцу, и эмилианцу [38] вроде меня, но, как оказалось, я ошибался, потому что он так и продолжал сокрушаться на весь вагон, словно находился на рыночной площади Бишелье, Веццано-суль-Кростоло или Бирмингема, если, конечно, в Бирмингеме есть рыночная площадь.
Когда он наконец наговорился, из динамиков с интервалом в несколько секунд прозвучали одно за другим три объявления, которые превратились в шесть, потому что переводились на английский, и в паузах между ними я бормотал: «Как хорошо, что тут зона тишины, а иначе даже страшно подумать, какой бы тут стоял шум», – тем самым внося и свой вклад в борьбу с тишиной в поезде, который должен был доставить меня в Анкону, откуда я уже на машине добирался до Мачераты.
По дороге из Болоньи в Римини я смотрел в окно, на деревенские пейзажи Эмилия-Романьи, на эту зелень, которая напоминала позеленевшую медь из стихотворения Ахматовой и так радовала глаз, что я ловил себя на мысли: «Как прекрасна Италия!»
Хотелось бы мне быть оригинальным, но, как видите, оригинальностью я не блещу – мне просто очень нравится любоваться красотой.
Когда Батталья была еще маленькой, помню, однажды мы гуляли с ней по центру Болоньи и, проходя между виа Орефичи и виа Риццоли, я оглянулся, проверяя, не отстала ли она, и подумал: «Какая она красивая!» Она была такая красивая, что это мгновение я запомнил на всю жизнь.
И еще по поводу красоты. Мне нужно было съездить в Россию, в Музей Ахматовой, и я обратился в турагентство, поинтересовавшись, что они могут мне предложить. В то утро, когда я получил их предложения, у меня засосало под ложечкой – так происходило каждый раз, когда я собирался в Россию. До отъезда оставалось два с лишним месяца, но меня уже переполняло желание поскорее оказаться там и одновременно чувство страха, которое она внушала мне, эта прекрасная и жуткая Россия. Двумя днями ранее в Комо я как раз рассказывал о страхе, который наводит на меня Россия, я говорил, что люблю ее, потому что она меня пугает, и меня попросили объяснить подробнее.
Я мог бы ответить, что, если хорошо подумать, меня пугает все, что я люблю.
Мне становится страшно, когда я читаю Джанни Челати [39].
Мне становится страшно, когда я вижу, как серьезно Батталья относится к учебе.
Мне становится страшно, когда я жду встречи с Тольятти и замечаю ее силуэт вдали.
Там, в Комо, я мог бы сказать, что мне внушает страх все, что я люблю.