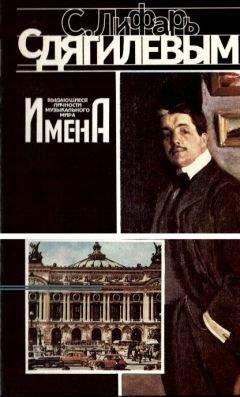Дягилев. С Дягилевым - Лифарь Сергей Михайлович
(В этом письме выражены умеренные взгляды одного из наиболее влиятельных и наиболее «левых» сотрудников-участников редакции «Мира искусства».)
Валечка Нувель писал: «Все мои вечера я теперь провожу у Сережи. Журнал нас экситировал [20], эмоционировал, и мы все принялись за него с жаром. Каждый день происходят горячие дебаты. Вот что меня теперь интересует. Быть может, это мелко и низко (!), но оно есть и я не могу и не буду насиловать свою личность. К более высоким интересам (!) я перейду только тогда, когда почувствую к тому естественную, настоятельную, непреодолимую потребность».
«Ох, Сереженьке много будет дела!» Да, «Сереженьке» оказалось много, слишком много дела – в особенности потому, что ни на чью помощь, кроме Димы Философова, он не мог полагаться. «Шура» Бенуа, который так горячо приветствовал журнал, скоро охладел к нему и уже 5 июля 1898 года писал: «Года три назад я бредил о журнале и получал великое множество таковых. Но с тех пор, с одной стороны, журналы существующие мне опротивели, с другой – я охладел и к самой мысли об издании журнала. По самой своей натуре – журнал есть опошление. Но в то же время я не должен забывать, что есть молодые художники (и старые), которым журнал окажется существенной пищей и которым журнал может принести пользу. Поэтому я принципиально за журнал. Но от этого до теплого к нему отношения далеко. Будь я в Петербурге, с вами, разумеется, мой лед под ударами дебатов (belle image! [21]) раскололся бы. Но здесь вдали от вас лед толстеет и крепнет».
Даже Валечка – «шампанское» – стал относиться уже не с тем жаром и 1 июля сообщал Бенуа: «Дима и Сережа уехали в деревню до первого августа, а потому журнальная „агитация“ на время прекратилась. Я вполне понимаю, что живого отношения к журналу ты не имеешь. Я бы его тоже не имел, если бы у меня было свое дело, но такого нет (музыку я совсем бросил и, кажется, хорошо сделал). Журнал же дает повод к отвлеченным спорам, которые я ужасно люблю, а так как такие споры давно уже не ведутся, то я с радостью ухватился за журнал. Но как только затрагиваются вопросы чисто практического свойства, я начинаю скучать и зевать. Таково уже мое назначение: думать и говорить о вещах, которые никому не нужны и никакой пользы не приносят. И уверяю тебя, мне это куда симпатичнее, чем вся наша теперешняя активная деятельность. Подымать до себя большую публику значит в сущности опускаться до ее уровня. И какое мне дело до большой публики! Если я принимаю участие в активной деятельности, так только для того, чтобы несколько улучшить мой ближайший антураж и сделать сносной мою жизненную обстановку».
В каком состоянии находился в это время Дягилев, которого – в самый горячий момент подготовительной, то есть самой важной, работы – покинули его «друзья» – былые энтузиасты, свидетельствует его письмо к А. Н. Бенуа от 2 июня 1898 года, в котором он писал:
«Когда строишь дом, то, Бог весть, сколько каменщиков, плотников, столяров, маляров тебя окружают, Бог знает, сколько хлопот надо: то кирпичи, то балки, то обои, то всякая другая мелочь. Об одном только спокоен, это, что фасад дома будет удачен, так как ты веришь в дружбу и талант архитектора-строителя. И вот выходит обратное; когда ты в пыли и в поту вылез из-под лесов и бревен, оказывается, твой архитектор говорит тебе, что он дома выстроить не может, да и вообще, к чему строить дом, есть ли это необходимость и проч. И тут только ты понимаешь всю мерзость кирпичей и всю вонь обоев и клея, и всю бестолковость рабочих и проч. Так ты подействовал на меня твоим письмом. Уж если Валечка расшевелился, то пойми же, главным образом, потому, что он видит, чего все это стоит и как это все делается. А ты вдруг начинаешь говорить о пользе журнала, о том, можно ли говорить о стариках или Васнецове… Как я не могу и не сумею просить моих родителей о том, чтобы они меня любили, так я не могу просить тебя, чтобы ты мне сочувствовал и помогал – не только поддержкой и благословением, но прямо, категорично и плодовито помогал своим трудом. Словом, я ни доказывать, ни просить тебя ни о чем не могу, а трясти тебя, ей Богу, нет времени, а того гляди свернут тебе шею. Вот и все, надеюсь, что искренний и братственный тон моей брани на тебя подействует и ты бросишь держать себя, как чужой и посторонний, а оденешь скорее грязный фартук, как и все мы, чтобы месить эту жгучую известку».
Пришлось Дягилеву вдвоем с Философовым месить «жгучую известку», – как бы то ни было, 10 ноября 1898 года вышел первый номер «Мира искусства».
Часть вторая
Эпоха «Мира искусства»
«Мир искусства»
Я назвал эту часть эпохой «Мира искусства», имея в виду известный период жизни Дягилева, – тот период, когда он издавал «Мир искусства», но это название можно и должно понимать и иначе: издание журнала «Мир искусства» составило настоящую большую эпоху в русском искусстве и в истории русской культуры.
Переоценить значение «Мира искусства» невозможно, гораздо легче его недооценить: значение его было так велико, что какие бы слова о нем ни говорились, все они будут недостаточны.
Нам трудно теперь перенестись в то, ставшее уже далеким время – в 90-е годы прошлого века, и особенно в русские 90-е годы (они значительно отличаются от европейских), когда появился первый русский художественный журнал, художественный в настоящем и полном смысле слова.
После прекраснейшей весны русского искусства в пушкинскую эпоху с культом красоты и с высокой художественной культурой и красота, и художественная культура уходят из русской жизни. Эта ущербность художественного вкуса чувствуется уже в самом конце пушкинской эпохи; уже Пушкин говорил о нарождающемся новом поколении, которому «некогда спорить о стихах» и «пред созданьями искусств и вдохновенья трепетать радостно в восторгах умиленья»; уже Пушкин должен был возвышать свой голос и гнать из храма искусства торгашей, которым «печной горшок» дороже «мрамора-бога» и которые все настойчивее и настойчивее требовали от искусства утилитарности, «пользы».
С угасанием прекраснейшей пушкинской эпохи, в русской жизни XIX века наступил «железный век», век, в который было безбоязненно провозглашено, что «сапоги выше Шекспира». Русская художественная культура – она сказывалась во всем, начиная с великих произведений искусства и кончая прекрасным корешком переплета книги, креслом, люстрой и прочими житейскими мелочами – поднялась на невероятную, головокружительную высоту в пушкинскую эпоху – неужели только для того, чтобы с нее низвергнуться? Кажется несправедливым, что за одно-два десятилетия русского возрождения мы должны были расплачиваться долгими, мрачными, уныло-серыми десятилетиями упадка, декадентства, не того декадентства в кавычках, которое хотело освежить затхлый воздух жизни, а настоящего беспросветного декадентства-упадка.
В 40-х годах еще светят косые лучи Пушкинского солнца; нет-нет, да и блеснет солнце искусства; отблески солнца пушкинской эпохи еще редко-редко, но видны в 50-х годах, а дальше – совершенный мрак, смерть художественной культуры. Я подчеркиваю слова «художественной культуры», потому что и в 60-х, и в 70-х, и в 80-х годах продолжают действовать и вновь рождаются, возникают подлинные, иногда громадные художники и поэты (достаточно назвать Тургенева, Льва Толстого, Достоевского, Фета…), настоящие таланты, настоящие, а не фальшивые алмазы, но они – одиночки и едва-едва освещают окружающий мрак, – той общей высокой художественной культуры, какая была в пушкинскую эпоху, уже больше нет, за исключением, может быть, одной области искусства – музыки.
Два течения господствуют в искусстве второй половины XIX века – старое «пушкинское», «классическое» и новое – откровенно-утилитарное. И если есть известная житейская, жизненная моральная красота, красота жизненного подвига во втором течении, по существу антиэстетическом и отрицающем красоту, то нет ни жизни, ни красоты в обездушенном «пушкинском», «классическом», якобы пушкинском и якобы классическом искусстве, ставшем казенно-чиновничьим, формальным, мертвым и действительно никому не нужным искусством – упадком когда-то высокого и значительного искусства.