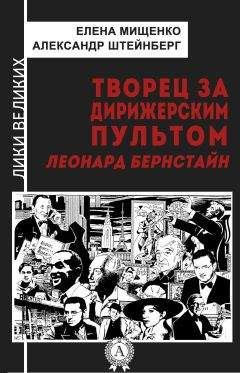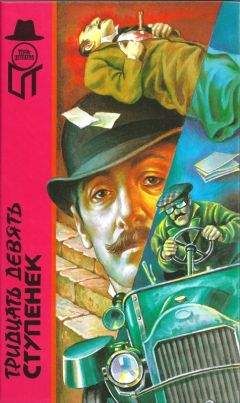Игорь Минутко - Искушение учителя. Версия жизни и смерти Николая Рериха
— Теперь, Исаак, повторяю: они, когда появится необходимость, будут с тобой всегда. Все остальное ты имеешь.
На его плечо легла рука Жака Кальмеля.
— Пора, мой друг! Идем…
Длинный коридор, сводчатые потолки, чадящие факелы: в неверном вздрагивающем свете пробежало несколько крыс с недовольным свистящим попискиванием; воздух влажный, и в нем привкус тлена.
И они уже на улице. Такой знакомый, родной запах: старые августовские сады, мокрая земля, в палисадниках доцветают флоксы, и аромат их терпок и устойчив.
Они быстро идут по темному переулку, кажется, знакомому…
Подождите! А гае же…
Из-за угла трамвай с тускло освещенными окнами, дуга над ним рассекает ярко-голубые искры, металлический скрежет тормозов — оказывается, тут остановка.
— Постой, Жак…— Иннокентий Спиридонович Верховой судорожно сжимает руку месье Кальмеля. — Это же остановка «Заводской тупик»!
— Да, да, дружище Исаак! — смеется Черный Наставник Требича-Линкольна. — Тебе повезло: дежурный ночной трамвай подбирает таких же горемык, как ты. Проедешь с комфортом целых пять остановок. Поспеши! Завтра приду на вокзал — проводить.
Он успевает прыгнуть на подножку трамвая уже на ходу…
Вагон пустой. Кондукторша дремлет на своем месте, и только один пассажир на задней площадке курит, жадно затягиваясь.
Требич-Линкольн, или — что сейчас точнее — Иннокентий Спиридонович Верховой сел к окну, все еще изумленный до последней степени только что произошедшим и поэтому находящийся в состоянии нервного транса: «Было? Или не было? Сон, галлюцинация? Или — умом. тронулся? С рельсов — под откос? да я…»
Сумбурные мысли прервало прикосновение к плечу, довольно грубое, и голос:
— Слышь, товарищ! Папироски не найдется? Последнюю спалил.
— Не курю. — Иннокентий Спиридонович сразу узнал голос, глухой, утробный, только сейчас в нем не было ни злости, ни решительности, а скорее, робость и стеснительность.
Он резко повернулся. Да, перед ним стоял, держась за металлическую скобу на спинке сиденья ¦— трамвай сильно покачивало, — Илья Иванов, из которого совсем недавно старцы в подземелье седьмого измерения извлекли нечто, превратив его в Черного Воина по имени Гим: рубашка неопределенного цвета с оборванными пуговицами, нелепая кепочка блином на голове, помятое невыразительное лицо, тем не менее с выражением крайнего смятения.
— Я с тобой рядышком определюсь, — просительно сказал Илья Иванов. — Не возражаешь?
— Место не занято.
Илья плюхнулся рядом на жесткое сиденье и замер.
Довольно долго ехали молча; трамвай уже миновал три остановки, через одну — конечная.
Требич-Линкольн чувствовал все большее беспокойство.
«Или вытряхнуть его из вагона на следующей остановке к чертовой матери?..»
Но тут Илья нарушил затянувшееся молчание, громко воскликнув:
— Ни хрена не понимаю!
— Да в чем дело? — спросил Инокентий Спиридонович, ощутив вдруг острейшее любопытство.
— Ты, скажи со всей откровенностью, видел, как я в трамвай садился?
— Ты уже в нем был, когда я вошел.
— На какой остановке?
— «Заводской тупик».
— Так это же моя остановка! Мой дом через квартал! Нет, ни хрена не понимаю!..
— Чего ты не понимаешь?
— А то… Где я был? Откуда ему? Затмения… Слушай, давай поручкаемся? Я — Илья, если хочешь-Илюха. А ты?
— Иннокентий.
— Значит, Кеша? Давай пять! Рукопожатие оказалось крепким и долгим.
— Вот что, Илья. Сейчас конечная. Там я сойду. А ты оставайся, трамвай кольцо сделает, в парк пойдет, попроси кондукторшу на «Заводском тупике» остановиться…
— Это само собой! — нетерпеливо перебил Илья Иванов. — Я другого не понимаю.
— Чего именно?
— Да как объяснить?.. Я — и не я…
— Темно говоришь, Илья.
— А как по-другому обсказать? Понимаешь, Кеша… Ведь я есть… Нет, был… Злыдень я по всей округе. Так меня и кличут, особенно бабы да детишки: Зверь! Потому как весь я переполнен злостью — на весь мир. Все бы сокрушил к едреной фене. Ну… Ты понимаешь, драки всякие, безобразия… Пакость какую сотворить, хошь кому, — это милое дело. Особенно, если выпью. И свою половину, Марфу Ивановну — смертным боем, если под горячую руку, считай, через день. Только… Это все было… Раньше… И вот, представьте себе, будто из меня всю злобу вынули. Нету ее!
— Ничего не понимаю…
— А я, думаешь, понимаю? Вот щас… Нет у меня никакой злости! Нету! Ни на кого! А всем, кому зло сотворил… Упасть бы на колени и прошение вымолить…— Голос Ильи Иванова дрожал от переживания, в глазах блестели слезы. — И первая, перед кем покаюсь, — это моя Марфуша. Вот войду сейчас в дом и от дверей поползу к ней червяком. «Прости, — скажу, — Марфуша, прости…» Эх, гостинец бы какой ей… Первый раз в жизни. А то ведь все из дому таскал — на пропой.
Трамвай заскрежетал на повороте.
— Конечная! — мгновенно вышла из спячки кондукторша.
Требич-Линкольн вынул из кармана бумажник, извлек из него три десятирублевки и, не узнавая себя, можно сказать, изумляясь порыву, протянул их Илье Иванову.
— Для твоей Марфуши, на гостинцы. Ей отдай. Она лучше тебя распорядится.
— Да я…
— Увидимся — отдашь.
— Кеша, друг милый, теперя до гробовой доски, — отдам! Вот тебе крест святой! — Илья неумело, но истово перекрестился. — Пивную на Мыльной знаешь? Возле бани?
— Знаю.
— Там и свидимся. Я, считай, в пивнушке нашей — каждый вечер.
Трамвай остановился.
Выпрыгнув из вагона, Исаак Тимоти Требич-Линкольн, он же Иннокентий Спиридонович Верховой, увидел ярко освещенный трамвай, делающий разворот на кольце, и стремительно идущего по вагону к кондукторше Илью Иванова.
Удивительное дело! Эту, в общем-то, будничную картину он помнил всегда, всю оставшуюся жизнь. Она часто и постоянно, без всякого повода возникала в его сознании, ярко и контрастно: июльская темная ночь в Измайлове, ярко освещенный вагон трамвая, делающий крутой разворот по кольцу, и по нему идет мужчина, охваченный Божественным порывом сотворить Добро.
8.05
— Господин полковник, они в миле от нас.
— Что же, сержант Стоун, — Чарльз Мелл облизал вдруг высохшие губы, — займите место в укрытии, и когда они будут против нас, по моей команде — по три бойца на каждого…
Полковник не успел договорить.
— Скотина Чарльз! — зычно прозвучал резкий грубый голос. — Ты узнаешь меня?
По. приказу командира полминуты назад было разрушено гипнотическое поле, делающее шеренгу черных воинов невидимыми.
Теперь они стояли в тылу бойцов «Кобры», которые, все разом повернувшись, с изумлением, но без всякого страха смотрели на двенадцать безоружных мужчин в странных черных одеяниях средневекового покроя.