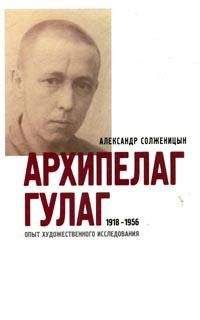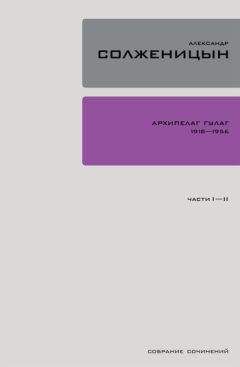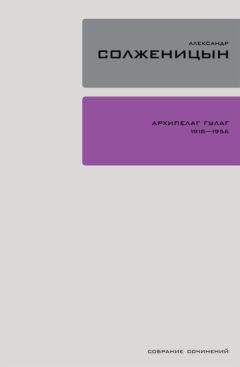Александр Солженицын - Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956: Опыт художественного исследования. Т. 1
В вагон-заке и за двое суток так изморишься, задохнёшься, изомлеешь, что перед большим городом сам не знаешь: то ли б ещё помучиться, да скорей доехать, то ль отпустили б размяться маленько, на пересылку.
Но вот завозился конвой, забегал. Выходят в шинелях, стучат прикладами. Значит, выгружают весь вагон.
Сперва конвой станет крэгом у вагонных ступенек, и едва ты с них скатишься, свалишься, сорвёшься, — конвоиры дружно и оглушительно кричат тебе со всех сторон (так учены): "Садись! Садись! Садись!" Это очень действует, когда в несколько глоток и не дают тебе поднять глаз. Как под разрывами снарядов, ты невольно корчишься, спешишь (а куда тебе спешить?), жмёшься к земле и садишься, догнав тех, кто слез раньше.
"Садись!" — очень ясная команда, но если ты арестант начинающий, ты её ещё не понимаешь. В Иванове на запасных путях я по команде этой с чемоданом в обнимку (если чемодан не в лагере, а на воле, у него всегда рвётся ручка и всегда в крутую минуту) перебежал, поставил его на землю долгой стороной и, не углядев, как сидели передние, сел на чемодан — не мог же я в офицерской шинели, ещё не такой уж грязной, ещё с необрезанными полами, сесть прямо на шпалы, на тёмный промазученный песок! Начальник конвоя — румяная ряшка, добротное русское лицо, разбежался — я не успел понять, чту он? к чему? — и хотел, видно, святым сапогом в окаянную спину, но что-то удержало — не пожалел своего наблещенного носка, стукнул в чемодан и проломил крышку. "Са-дись!" — пояснил он. И только тут меня озарило, что как башня я возвышаюсь среди окружающих зэков — и ещё не успев спросить: "А как же сидеть?", я уже понял, как, и берегомой своей шинелью сел, как все люди, как сидят собаки у ворот, кошки у дверей.
(Этот чемодан у меня сохранился, я и теперь, когда попадётся, провожу пальцами по его рваной дыре. Она ведь не может зажить, как заживает на теле, на сердце. Вещи памятливее нас.)
И эта посадка — она тоже продумана. Если сидишь на земле задом, так что колени твои возвышаются перед тобой, то центр тяжести — сзади, подняться трудно, а вскочить невозможно. И ещё сажают нас потеснее прижавшись, чтоб друг другу мы больше мешали. Захоти мы все сразу броситься на конвой, — пока зашевелимся, нас перестреляют прежде.
Сажают ждать воронка (он возит партиями, всех ведь не уберёт) или пешего отгона. Сажать стараются в скрытом месте, чтоб меньше видели вольные, но иногда посадят неловко прямо на перроне или на открытой площадке (в Куйбышеве так). Вот здесь — испытание для вольных: мы-то разглядываем их с полным правом, во все честные глаза, а им на нас как поглядеть? С ненавистью? — совесть не позволяет (ведь только советские писатели и журналисты верят, что люди сидят "за дело"). С сочувствием? с жалостью? — а ну-ка фамилию запишут? И срок оформят, это просто. И гордые свободные наши граждане ("читайте, завидуйте, я гражданин") опускают свои виновные головы и стараются вовсе нас не видеть, как будто место пустое. Смелей других старухи: их уже не испортишь, они и в Бога веруют, — и отломив ломоть хлеба от скудного кирпичика, они бросают нам. Да ещё не боятся бывшие лагерники, бытовики, конечно. Лагерники знают: "Кто не был — тот побудет, кто был — тот не забудет", и, смотришь, кинут пачку папирос, чтоб и им так кинули в их следующий срок. Старушечий хлеб от слабой руки не долетит, упадёт на земь, пачка крутнёт по воздуху под самую нашу гущу, а конвой тут же заклацает затворами — на старуху, на доброту, на хлеб: "Эй, проходи, бабка!"
И хлеб святой, преломленный, остаётся лежать в пыли, пока нас не угонят.
Вообще, эти минуты — сидеть на земле на станции — из наших лучших минут. Помню, в Омске нас посадили так на шпалах, между двумя долгими товарными составами. В этот прогон никто не заходил (наверно, выслали в оба конца по солдату: "Нельзя сюда!" А советский человек и на воле воспитан подчиняться человеку в шинели). Смеркалось. Был август. Станционная масленая галька ещё не успела остыть от дневного солнца и грела нас в сиденьи. Вокзал был не виден нам, но где-то очень близко за поездами. Оттуда гремела радиола, весёлые пластинки, и слитно гудела толпа. И почему-то не казалось унизительно сидеть сплочённой грязной кучкой на земле в каком-то закутке; не издевательски было слушать танцы чужой молодёжи, которых нам уже никогда не танцевать; представлять, что кто-то кого-то на перроне сейчас встречает, провожает и может быть даже с цветами. Это было двадцать минут почти свободы: густел вечер, зажигались первые звёзды, красные и зелёные огни на путях, звучала музыка. Продолжается жизнь без нас — и даже уже не обидно.
Полюби такие минуты — и легче станет тюрьма. А то ведь разорвёт от злости.
Если до воронка перегонять зэков опасно, рядом — дороги и люди, — то вот ещё хорошая команда из конвойного устава: "Взяц-ца под руки!" Ничего в ней нет унизительного — взяться под руки! Старикам и мальчишкам, девушкам и старухам, здоровым и калекам. Если одна твоя рука занята вещами — под эту руку тебя возьмут, а ты берись другою. Теперь вы сжались вдвое плотнее, чем в обычном строю, вы сразу отяжелели, вы все стали хромы, на перевесе от вещей, от неловкости с ними, вас всех качает неверно. Грязные, серые, нелепые существа, вы идёте как слепцы, с кажущейся нежностью друг ко другу — карикатура на человечество!
А воронка, может быть, и вовсе нет. А начальник конвоя, может быть, трус, он боится, что не доведёт — и вот так, отяжелённые, болтаясь на ходу, стукаясь о вещи — вы поплетётесь и по городу, до самой тюрьмы.
Есть и ещё команда — карикатура уже на гусей: "Взяться за пятки!" Это значит, у кого руки свободны — каждой рукой взять себя за ногу около щиколотки. И теперь — "шагом марш!" (Ну-ка, читатель, отложите книгу, пройдите по комнате!.. И как? Скорость какая? Что видели вокруг себя? А как насчёт побега?) Со стороны представляете три-четыре десятка таких гусей? (Киев, 1940.)
На улице не обязательно август, может быть — декабрь 1946, а вас гонят без воронка при сорока градусах мороза на Петропавловскую пересылку. Как легко догадаться, в последние часы перед городом конвой вагон-зака не трудился водить вас на оправку, чтоб не мараться. Ослабевшие от следствия, схваченные морозом, вы теперь почти не можете удержаться, особенно женщины. Ну так что ж! Это лошади надо остановиться и распереться, это собаке надо отойти и поднять ногу у заборчика. А вы, люди, можете и на ходу, кого нам стесняться в своём отечестве? На пересылке просохнет… Вера Корнеева нагнулась поправить ботинок, отстала на шаг — конвоир тотчас притравил её овчаркой, и овчарка через всю зимнюю одежду укусила её в ягодицу. Не отставай! А узбек упал — и его бьют прикладами и сапогами.