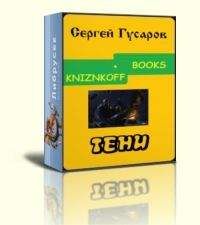Сергей Снегов - Книга бытия (с иллюстрациями)
Гораздо хуже, что о нашем браке узнали мои родные. С этого дня наша жизнь переменилась.
Давно прошли времена, когда мама следила чуть ли не за каждым моим движением. Она смирилась с моими отлучками и уже не боялась, что я свяжусь с «хулиганами и босяками». Поздние прогулки с Людмилой не вызывали у нее возражений. Правда, она так и не смогла забыть страшного голода и потому тщательно следила, чтобы я утром завтракал, днем перекусывал, а вечером, где бы я ни был, оставляла для меня на столе обильный ужин, накрывая тарелки и чашки газетами (от мух).
Но мое поведение изменилось — и она стала что-то подозревать. Я пропадал ночи напролет — и никак не объяснял своего отсутствия. Это показалось ей чрезмерным. Впрочем, таким оно и было, если судить по законам нормальной жизни, а не по правилам сверхсуществования, которые я бесцеремонно для себя устанавливал. Кстати, своим детям я вряд ли разрешил бы такую жизнь, какую позволял себе.
У нас с Фирой установился определенный ритуал: если я оставался у нее на ночь, то приходил попозже, а если шел домой, то перед этим мы с ней немного — часа два или три — гуляли. В начале марта мы догуляли почти до моего дома. Потом я повернул назад — проводить Фиру. Мы прошли квартала два, ничего не замечая, потом я обернулся и увидел, что за нами молча идет моя мать.
— Зачем ты преследуешь нас, мама? — спросил я.
Она ответила очень властно:
— Оставь свою потаскуху и иди домой. Там поговорим.
Фира схватила меня за руку: она испугалась, что я устрою скандал прямо на улице. Но я даже не повысил голоса: дело было слишком серьезным, чтобы размениваться на уличные крики. Я сразу все решил.
— Фируська, иди домой, я скоро приду. Надо потолковать с мамой и Осипом Соломоновичем.
Всю обратную дорогу мама молчала. Я тоже. Отчим, увидев наши лица, испугался.
С. Снегов
— Зиночка, что случилось? — только и сказал он. И мама дала волю гневу.
— Вероятно, ничего особенного — если с точки зрения Сергея. Повадился по девкам — только и всего. Терпеть больше не могу — слышишь, Ося!
Отчим редко повышал голос — и на маму это действовало.
— Зина! Говори спокойно! Еще раз спрашиваю: что случилось?
Она заговорила спокойней:
— Ты всегда его выгораживаешь — так слушай. Я шла по улице, вижу: он со своей новой девкой подошел к дому, постоял и повернул обратно. Я пошла за ними. Он заметил и закричал на меня. Я приказала ему идти домой. Теперь спрашивай его сам.
Отчим повернулся ко мне.
— Что произошло, Сережа?
Я вынул из кармана свидетельство о браке.
— Мама оскорбила мою жену. Я ухожу. Ноги моей больше не будет в вашем доме!
Отчим молча прочел свидетельство и протянул его маме. Я выдвинул ящик комода, вынул свежую рубашку, свернул ее. Все совершалось в полной тишине. Отчим и мать следили за моими движениями. Мне хотелось сказать им что-нибудь гневное и грубое, но их молчание остановило меня. Я взял свидетельство о браке, спрятал его и вышел, тихонько прикрыв дверь, — мне показалось, что это подействует на них сильней, чем яростное хлопанье. На улице меня ждала Фира.
— Почему ты здесь? — чуть не закричал я. — Одна, ночью, на Молдаванке… Как ты посмела так рисковать? Я ведь мог и задержаться.
— Я не сумела пойти домой одна. Я так тревожусь! О чем вы говорили? Почему ты вышел так быстро?
— Я объяснил маме, что она оскорбила мою жену и что простить этого я не могу. Взял вторую рубашку и удалился. Вот, собственно, и все.
— Зачем ты взял рубашку? На тебе уже есть одна. И пиджак, и плащ…
— И пиджаков, и плащей у меня по одной штуке — и все на мне, а рубашек две. Зачем мне оставлять свою одежду, если я ухожу навсегда?
— Навсегда? — сказала она медленно. — Я думала, ты помиришься с родными.
— Моя мама, как и твой отец, не из тех, с кем можно легко помириться, — сказал я нарочито резко, чтобы избежать споров. — Да и я не очень способен вымаливать прощение. Мама это хорошо знает — она могла бы повести разговор по-другому.
Фира ничего не ответила. До ее дома мы дошли молча. Наконец я спросил:
— О чем думаешь?
— О тебе. Верней — за тебя. У тебя есть, где жить?
— Пока нет. Может, найду уголок у Генки Вульфсона.
— Я так и знала! Будешь жить у меня.
— Отпадает, Фира. Потом нечаянно нагрянет твой отец и обнаружит нас в постели.
— К сожалению, постель будет случаться, как и сейчас, только в удачные дни. Я устрою тебе пристанище на чердаке.
— Чердачное логово! — засмеялся я. — Не думал, что дойду до этого.
Ту ночь я провел вместе с Фирой. А следующую — и многие другие — на чердаке. Любовь Израилевна устроила мне там приличное лежбище, — перин и матрацев не достала, зато нагребла соломы, накрыла ее чистой простыней и положила в головах настоящую пуховую подушку. Нашлось и старое ватное одеяло — ночи были холодные, я ежился даже в одежде.
Так прошло около полутора месяцев. Вечерами я сидел у Фиры или в библиотеке, иногда (если Любови Израилевне угрожало очередное посещение мужа) намеренно задерживался в обсерватории или слонялся по улицам, а после полуночи, когда сосед Вайнштейнов засыпал, украдкой пробирался на чердак и роскошно устраивался на чистой простыне, прикрывавшей старую солому. Только раздеться я так ни разу и не осмелился. И дело не в одном холоде — балки и стропила сплошь покрывала паутина. Это было очень противно…
Зато когда нам с Фирой удавалось побыть вдвоем, на мне не оставалось даже ниточки. И ходил я по комнате — если удавалось ходить — только в одежде нашего праотца Адама славных времен цветущего Эдема. И даже сейчас, по истечении многих лет и многих общений с женщинами, берусь утверждать, что те ночи были гораздо горячей и бессонней, чем ночи, проведенные Адамом с его простушкой Евой.
Вскоре я обнаружил, что главная трудность бытия состоит вовсе не в отсутствии благоустроенной жилплощади, а в гораздо более прозаической нехватке денег.
Утром после своего ухода, проверяя карманы, я нашел в них всего около пяти рублей. И вспомнил, что дома, в комоде, рядом с прихваченной рубашкой, лежала еще одна пятирублевка, недавно полученная от ученика, — ее-то я и не взял… Наверное, никогда — ни до, ни после — я так не жалел об утраченных деньгах! Но возвращаться за ними было немыслимо.
Оставалось успокаивать себя тем, что мама непременно заглянет в комод, увидит пятирублевку и поймет, что я ушел из дому без денег — и потому осужден на голодание. Это не может ее не расстроить! Она искренне горевала, когда я не доедал суп или оставлял половину жаркого, — а теперь для меня, может быть, станет проблемой простая горбушка хлеба… Конечно, мама будет мучиться! В мысли о ее страданиях было некое действенное утешение — и я к нему часто прибегал.