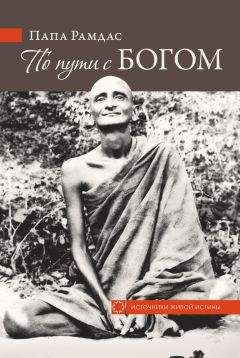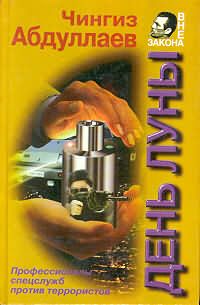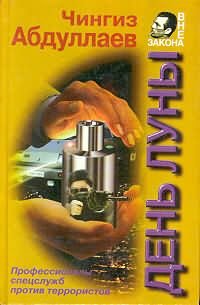Марк Захаров - Театр без вранья
«Город миллионеров» в трагикомическом потоке сознания
«Город миллионеров» появился на сцене московского Ленкома в 2000 году. Идею постановки спектакля по пьесе Эдуарде Де Филиппе «Филумена Мартурано» принес в театр мой ученик по мастерской режиссерского факультета РАТИ Роман Самгин.
Если бы я не был суеверен и не боялся сглазить — наверняка пустился бы в пространные рассуждения о таланте этого человека, который формировался как режиссер на моих глазах и даже с некоторой моей помощью. Впрочем, весьма относительной. Я уже рассуждал в предыдущей главе о закономерностях в становлении творческой личности. Выучиться на сочинителя, как обучаются на бухгалтера или инженера, по моему глубокому убеждению, никак невозможно. Чтобы стать профессиональным поэтом, балетмейстером, художником, режиссером и вообще творцом новых идей, необходимо иметь ярко выраженную генетическую склонность, а потом дополнить ее прохождением хорошей школы, при наличии обязательной и редкой работоспособности.
Так вот, Роман Самгин, может быть и не сразу, но обнаружил ярко выраженную генетическую склонность или, проще говоря, режиссерский талант, а интенсивную работоспособность почувствовал или приобрел сразу. На мою педагогическую долю осталась режиссерская коррекция по линии мастерства, общетеатральной культуры и обязательные азы постановочного ремесла. По поводу ремесла можно потом скептически ухмыляться, но знать некоторые закономерности в нашей профессии, некоторые тактические и стратегические приемы — необходимо. Во всяком случае до той поры, когда собственной успешной практикой не опровергнешь того, о чем тебе талдычил твой учитель.
Самгин, обучаясь на режиссера, поначалу ничем особенным меня не удивлял, пока в качестве режиссера-стажера при моей мастерской вдруг не поставил со студентами выпускного курса «Бешеные деньги» А. Н. Островского. Здесь я с изумлением обнаружил эстетически сбалансированную, волевую, остроумную режиссуру на пустом сценическом пространстве без мебели и почти без реквизита. Ставка была сделана на «драматургию биологических процессов». Герои его спектакля пребывали в сложной и постоянной динамике комедийных метаморфоз. И материалом для цепочки психологических, нервных, пластических процессов, носящих спонтанный, непредсказуемый характер, служили психические, эротические, нервные, неврастенические завихрения человеческого интеллекта и его подсознательных комплексов. Почти все исполнители «Бешеных денег» обрели у Самгииа ярко выраженную комедийную заразительность. Через год в режиссерском сочинении Самгина, чеховском «Юбилее», эта самая заразительность была уже на порядок выше. Одноактную шутку Чехова играли только участники режиссерской труппы, и все они, вне зависимости от их актерских способностей, выглядели крайне убедительно. Я бы сказал, на редкость культурно, без примеси актерского дилетантизма, часто свойственного студентам-режиссерам, когда они выступают на студенческой сцене в качестве актеров.
Успехи Самгина совпали с периодом моих тревожных раздумий о судьбах московского Ленкома в сфере его режиссерского будущего. Не то чтобы я собрался назавтра умирать, но мысли о режиссерской профессии вообще стали носить у меня скептически-пессимистически-апо-калиптический характер. По Бердяеву, это вообще наша российская склонность — постоянно находиться в ожидании апокалипсиса. В последние годы обнаружилось, что надежно работающих режиссеров и у нас, и за рубежом совсем немного. А уж людей, могущих возглавлять репертуарный театр и вести его стабильно в качестве художественного лидера, — вообще можно пересчитать по пальцам.
Перешагнув шестидесятилетний порог, я, конечно, помнил о В. И. Немировиче-Данченко, который мог ставить замечательные спектакли и в восемьдесят лет, и тем не менее оптимизм, связанный с постановочной дееспособностью этой феноменальной личности, все чаще начинал восприниматься мною как радостное исключение из общих правил и закономерностей режиссерской профессии.
Навязчивая идея о долголетии московского Ленкома вне зависимости от моей личности стала с некоторым деликатным беспокойством свербеть в моих мозгах, а то и просто случаться в темечко.
Я предложил Самгину принести в театр идеи для его режиссерской работы. Предложение это было сделано с некоторым внутренним содроганием не потому, что меня беспокоил комплекс режиссерской ревности или что-то на это похожее, без чего абсолютно обойтись в театре, думаю, невозможно. Меня беспокоила мысль, наиболее четко сформулированная однажды Александром Збруевым. Звучала она примерно так: «Это — ваш театр. Все мы хотим работать только с вами. Так исторически сложилось. С известным, имеющим имя режиссером мы репетировать еще, пожалуй, согласимся, но вот с молодым, начинающим — не хотелось бы». Это смягченный пересказ збруевского монолога и царящих в театре настроений. Попытки в прежние годы привлекать к работе молодых режиссеров заканчивались у нас печально, поэтому принесенные Самгиным названия будущих спектаклей изначально вызвали во мне подлую неуверенность, впрочем, хорошо замаскированную от молодого режиссера.
Наибольший, хотя и не бесспорный интерес вызвала у меня только «Филумена Мартурано». Желание немедленно и одобрительно кивнуть сдерживал знаменитый вахтанговский спектакль 1956 года с Рубеном Симоновым и Цецилией Мансуровой. Фильм, снятый по этой пьесе, меня не беспокоил, но вот само заграничное название пьесы вызывало привычную идиосинкразию. С послевоенных лет, когда киностудии страны, и в особенности киевская, имени Довженко, дружно специализировались на разоблачении нравов современной, пагубной для человека зарубежной жизни, я непроизвольно вздрагивал, наблюдая, как наши артисты и режиссеры погружались в нюансы «ихних» бытовых ужасов. Понимаю, что здесь я очень субъективен, возможно, погряз в заблуждениях, но поставить пьесу, где прозвучат реплики типа: «Джонни, мальчик мой!» или «Мэри! Что ты будешь пить, моя крошка?» — я никогда не сумею. В этом смысле от самого названия пьесы, предложенной Самгиным, у меня началось поначалу неприятное внутреннее помутнение. Подвести, однако, под свои режиссерские комплексы научно-эстетическую базу я никак не хотел, и поэтому в процессе некоторой психологической адаптации мы с Самгиным договорились, что остроумно написанная итальянская пьеса должна называться иначе, и первые иностранные имена прозвучат со сцены, как минимум, через полчаса после начала спектакля. Кроме того, несколько успокаивало то обстоятельство, что «Филумена» уже не имела прямого отношения к итальянскому неореализму, который наше поколение досконально изучило на примере знаменитых послевоенных фильмов Р. Росселини, Л. Висконти, В. Де Сика. Пьеса замечательного драматурга, питаясь изнутри биотоками итальянской комедии «дель арте» (комедии масок), избежала погружения в натуралистические нюансы послевоенной итальянской разрухи, а являла собой пример несколько анекдотического, но вместе с тем пронзительного исследования вечных человеческих мук и радостей.