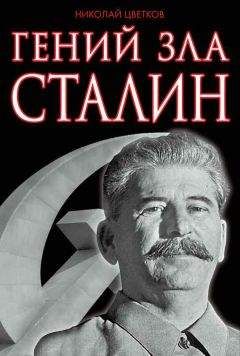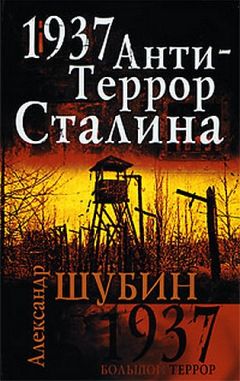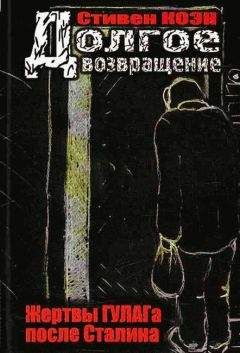Альберт Шпеер - Шпандау: Тайный дневник
19 декабря 1964 года. Сегодня мне передали фотографию. Я не мог понять, кто из моих сыновей на ней изображен, и совсем запутался. Потом прочитал письмо Эрнста и узнал, что это я в детстве.
21 декабря 1964 года. Сегодня миновал Сиэтл, город на западном побережье Соединенных Штатов. Через шестьдесят дней, несмотря на холод и сильный ветер, я преодолею 560 километров. Недавно я побил свой дневной рекорд и за пять часов сорок минут прошел 28 километров.
Несколько охранников заразились моими походами. Теперь иногда на дорожке можно встретить человек пять, которые шагают с решительными лицами.
— Я скажу вам, какая разница между вами и мной, — заметил сегодня Гесс. — Ваши причуды заразны.
24 декабря 1964 года. Несколько дней назад полковник Берд мимоходом поинтересовался, что обычно подавали к рождественскому обеду в нашей семье. Сегодня вечером в соответствии с моим ответом нам приготовили вареный окорок, картофельный салат, хрен и спаржу. На десерт, как дома, шоколадное мороженое. Спаржа была ошибкой, но я бы, пожалуй, включил ее в семейное меню. Полковник присутствовал при раздаче еды. Как я потом узнал, все эти вещи он купил сам и оплатил из собственного кармана.
12 января 1965 года. С некоторым изумлением прочитал в «Ди Вельт» статью, автор сокрушается по поводу того, что все бывшие подсудимые, проходившие по военному трибуналу союзников, освобождаются от дальнейшего преследования на основании «промежуточного договора» между тремя державами-победительницами и федеральным правительством. Между тем все газеты печатают отчеты с процесса по Освенциму, и у меня создается ощущение, что прошлое, которое, казалось, давно предано забвению, вновь возродилось. Внезапно у меня возникает страх перед миром, которого я больше не знаю, и этот мир с такой страстью вновь открывает страницы, которые постепенно бледнели в моей памяти после Нюрнберга в результате осознанного признания справедливости моего наказания. И внезапно Шпандау кажется мне не местом моего заключения, а моей защитой.
Мне, безусловно, будет гораздо тяжелее перенести новое обвинение. В Нюрнберге все было понятно. Добро и зло стояли по разные стороны, и между ними была проведена четкая граница. Преступления были настолько жуткими, а преступники, укрывшиеся от правосудия либо за самоубийством, либо за явными уловками, были столь отвратительны, что, даже при умеренном чувстве справедливости, человечности и собственного достоинства, мое отношение сложилось само собой.
Прошло двадцать лет. За это время все великие державы, исполнявшие роль судей, хотя бы раз — а некоторые чаще — сами оказались на воображаемой скамье подсудимых: русские танки в Восточном Берлине, пылающий в огне Индокитай, уличные бои в Будапеште, Суэцкий канал, Алжир и снова Индокитай, который теперь называется Вьетнам, а еще миллионы рабов, работающих по принуждению во многих частях света… Насколько труднее стало принимать обвинительный приговор, вынесенный этими судьями. Более того, долгие годы размышлений, диалогов с самим собой развеяли былое чувство вины. Ведь в основе конфронтации с собственной виной, вероятно, лежат поиски оправдания, и даже если это не так, ни один человек не способен столько лет утверждать свою вину и сохранять искренность.
А теперь этот процесс! Статьи в газетах об Освенциме станут для меня своего рода поддержкой. Они вернут практически утраченный смысл всех этих лет, проведенных в Шпандау, и в то же время помогут восстановить нравственную чистоту.
27 января 1965 года. Утром Ширах сказал британскому директору Проктеру, что ничего не видит правым глазом. Через несколько часов старший офицер британской медицинской службы записал в истории болезни, что две трети сетчатки перестали функционировать. Специалист по глазным болезням из главного управления в Мёнхенгладбахе подтвердил диагноз: у Шираха отслоилась сетчатка. Час спустя его перевели в лазарет.
28 января 1965 года. Прошлой ночью Шираха увезли в госпиталь. Полковник Надысев был в шоке, потому что, несмотря на все предосторожности, у ворот тюрьмы появились телевизионные бригады и установили прожекторы как раз в тот момент, когда вывозили Шираха.
29 января 1965 года. Чудесный зимний день, снег и солнце. В саду мы поставили кормушки для синиц, нанизали арахис на проволоку. Пиз подвесил несколько миндальных орехов на нитке и закрепил на ветке. Сначала птицы пытались перекусить нитку клювами. Когда у них ничего не вышло, одна птичка немного подтянула нитку наверх и прижала лапкой; она дважды повторила свой маневр и наконец достала первый орешек. Сидя на стене, вороны наблюдали за синицами, а мы наблюдали за воронами. Кто наблюдал за нами?
Вечером Миз сказал мне, что Ширах покончил с Шпандау. Он не вернется. Вообще-то мне тоже кажется, что потеря одного глаза даже для Советского Союза станет веским основанием для его освобождения. По мнению Миза, Ширах не сочтет эту цену слишком высокой.
3 февраля 1965 года. Тишина в тюремном корпусе становится все более жуткой. Я почти скучаю по нервозности Шираха, его возбужденности, его пению и свисту. Теперь я чаще гуляю с Гессом, но вскоре становится очевидным, что я не могу заменить Шираха. Однажды Гесс даже забыл, с кем он разговаривает.
— Вы читали, — с торжествующим видом спросил он, что они нарисовали свастику на здании социал-демократической партии?
7 февраля 1965 года. С десятидневной задержкой доктор Зейдль дал интервью о посещении Гесса, в котором сообщил, что находит состояние своего клиента удовлетворительным. О спутанности сознания не может быть и речи, заявил он. По всей видимости, цель этого заявления — расстроить любые планы по переводу Гесса в психиатрическую больницу. Адвокат также сообщил, что его клиент категорически отказывается подавать ходатайство о помиловании, потому что его приговор не имеет законной силы. Насколько я понимаю, это ставит крест на любых попытках добиться освобождения Гесса. В частности, русские воспримут эти слова как оскорбление. Но Гесс, наш Дон Кихот, очень доволен заявлением своего адвоката.
10 февраля 1965 года. Вчера Гесс официально известил французского и британского директоров, что впредь у него больше не будет никаких колик и болей. Он также передал это сообщение врачу.
Тем временем его сын сдал экзамен, но не прислал ему табель. Я спросил Гесса, знает ли сын, какая «награда» его ждет. Оказалось, не знает, потому что Гесс не написал об этом домой из опасения, что они попытаются его обмануть.