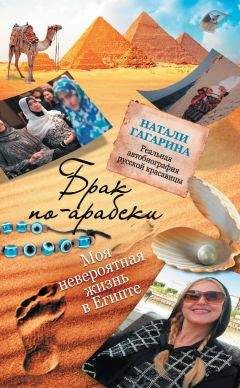Наталья Ильина - Дороги и судьбы
— Как я счастлив! Право, я бы вам не простил, если б вы не оценили этой площади!
Он был счастлив. Жена его была счастлива тем, что он счастлив. Я была счастлива красотой площади, тем, что я в Риме, чувство благодарности к моему другу и его жене переполняло меня, ну, короче говоря, это не вечер был, а майский день, именины сердца!
До отеля решили дойти пешком, благо он недалеко, старинные узкие улицы были почти пустынны и темноваты, не верилось, что через несколько минут на нас обрушится свет и гам площади Навона. Двигались неторопливо, иногда останавливались, внимание мое вновь обращали то на дом, то на окно, и еще встретился на нашем пути чудесный маленький фонтан: маска, а под ней круглая чаша были прилеплены к стене старого дома, из уст маски била струя воды...
Говорят, надо время, чтобы проникнуться чувством Рима, а мне в тот вечер казалось, что я уже этим чувством проникаюсь, как все было хорошо, как прекрасно... внезапно откуда-то все нарастающий грохот, яркий свет фары, как дьявольский глаз, ударил в лицо, ослепил... Мотоциклист, будь он проклят! И как мчится! «Кель аллюр!» негодующе воскликнула жена моего друга, я же своего негодования выразить вслух не успела — от мощного толчка в плечо рухнула на тротуар. Грохот проклятого мотоциклиста удалялся, затихал, сбил человека и скрылся, ну, а вдруг человек убит, или смертельно ранен, или... Человек убит не был и даже с помощью протянутых дружеских рук мог встать. Сочувственные возгласы, расспросы. Успокаиваю: все слава богу, руки-ноги целы, ну, ушибла плечо, ушибла колено, пустяки. А сумка? Что сумка? Здесь моя сумка!
Я-то думала, что меня просто сбили с ног, проносясь мимо, оказывается, была сделана попытка сорвать с моего плеча сумку. Ремешок, на котором она висела, я, вполне бессознательно, сжимала у бедра ладонью, поэтому попытка не удалась, сумка осталась при мне. Мне сообщили, что срывание мотоциклистами на ходу сумок у зазевавшихся дам — явление, нынче распространенное в Западной Европе. Как был расстроен мой друг! Он во всем винил себя, ибо забыл, забыл меня предупредить! «Я ведь еще в Корфу тебе напоминала, чтобы ты написал!» — говорила жена, тоже очень расстроенная. Я прихрамывала, болело колено, меня вели под руки и огорчались, что поблизости ни одного такси. Я твердила, что прекрасно дойду, к чему такси, и вообще будем считать, что мне повезло, ногу не сломала, сумка цела. Друг мой, однако, был безутешен. Его вина! Простодушные и доверчивые обитатели страны, где подобные вещи невозможны, должны заранее знать, что их ожидает в джунглях общества потребления с его аморальностью и преступностью...
— Почему же невозможны? И у нас воруют, а случается, и грабят!
Мне ответили, перейдя на русский язык, что в нашей стране уничтожены причины, порождающие преступность, а поэтому ее у нас становится все меньше.
— Это откуда же вам все так хорошо о нас известно?!
— ...а если преступность и есть еще, то у вас с этим умеют бороться! А здесь не умеют! У преступников находятся адвокаты, которые...
— Вы что же, считаете, что адвокаты не нужны? А может, и суд не нужен?
— Я этого не говорил! Но в обществе, где все продается и покупается...
Ну — поехали! Жена моего друга беспомощно повторяет: «О чем вы? О чем?» — мы не обращаем внимания...
— А у нас, по-вашему, все сплошь святые, что ли?
— Не доводите мою мысль до абсурда! Я только хочу сказать, что...
Немедленно взять себя в руки и прекратить этот бессмысленный спор. Ну почему я не могу оставить в покое этого добряка с его иллюзиями? А потому что злит этот самоуверенный тон! А ты лучше вспомни себя, какой была тридцать лет тому назад! Нет, но до такой наивности я, однако, не доходила! И все же, все же...
Господи! Почему, если человеку не нравится общество, в котором он живет и все пороки которого хорошо знает, то непременно надо воображать общество иное, на иных принципах построенное, каким-то раем, идиллией, скопищем добродетелей? Ведь это глупо, в конце-то концов. И пусть глупо. И оставь его в покое. Пошли мне, боже, терпения и мудрости!
Бог мольбе моей внял, терпение и мудрость мне были посланы (хватило их, правда, ненадолго), но в тот вечер я этот спор прекратила, как-то отшутилась, попросила извинения у жены (она сказала: «Какие же вы, русские, спорщики!»), и мы добрели до нашего уютного отеля, и там мой друг и жена его окружили меня трогательной заботой, в мой номер были принесены какие-то чудодейственные мази двух сортов и еще какие-то таблетки, моя левая рука от плеча до локтя (по ходу сдирания сумки) была покрыта синяками, колено — тоже, но, в общем, все кончилось вполне благополучно.
В мой последний римский вечер, четвертый по счету, я сидела в полном одиночестве на террасе отеля, покачиваясь на диване-качалке, глядела на дальний купол святого Петра, на купола других храмов, на черепичные крыши, на небо. На закатное, еще розовеющее небо. Я пыталась найти в нем тот серебряный блеск, о котором говорил Гоголь. Пыталась, но не находила. «Небо чудное, пью его воздух и забываю весь мир!» — тот же Гоголь. Закатное небо после погожего жаркого дня всегда и везде чудное, ничего такого особенного я в римском небе не видела, а быть может, видеть не умела.
«Вам понравился Рим?» Странный вопрос! Никто и не задаст мне его, и уж во всяком случае мои соотечественники. Всем нам откуда-то еще с детства известно, что Италия прекрасна. В этой уверенности нас вскоре поддержит Пушкин: «Адриатические волны, о, Брента! Нет, увижу вас!..» — так этого и не увидевший! Ну, а Гоголь, Герцен и другие лучшие люди сороковых годов скажут, что страна эта чем-то сродни русской душе, и мы навсегда им поверим. Между прочим, Михаил Погодин, подъезжая к Риму, увидел издали купол собора святого Петра и сообщил затем своим друзьям: «Я вздрогнул, встал и поклонился».
Вон он передо мной, этот купол, а я — ничего. Сижу, как ни в чем не бывало, не вздрагиваю, не кланяюсь.
Я рада, что накануне отъезда из Рима мне выпало несколько часов одиночества. Жену моего друга не очень привлекал автопробег по хорошо ей знакомым итальянским городам, она решила нас покинуть и ждать в Париже. Муж уехал ее провожать, условившись встретиться со мной в восемь вечера на террасе отеля.
Предоставленная самой себе, я сначала бродила по улицам, затем, рискуя жизнью, пересекла набережную (бешено мчащиеся автомобили), постояла на мосту над Тибром (Тибра не увидела, он высох за лето), вернулась на площадь Навона, с трудом отыскала место на одной из широких каменных скамей, где люди сидели в два ряда, спинами друг к другу, поглядела на толпу причудливо одетых туристов и отправилась в отель. И вот сижу на террасе.
Когда я ходила по улицам между виа Виктора-Эммануила и набережной, у меня было чувство, что я уже, видела где-то эти маленькие площади с маленькими фонтанами чуть не на каждой, и замусоренные тротуары, и обшарпанные стены старых домов, и разноцветное белье у окон и на балконах (до чего ж тут много стирают!), и женщин, громко переговаривающихся с одного балкона на другой, и довольно грязных, но веселых детишек, бегающих и прыгающих, и задумчивых бородатых юношей, сидящих со своими девушками непосредственно на тротуарах, и бездомных кошек с крадущейся воровской походкой — вся эта непринужденная уличная жизнь южного города казалась мне знакомой: нечто похожее, дума», мелькало в итальянских фильмах.