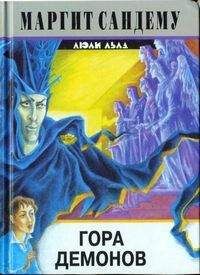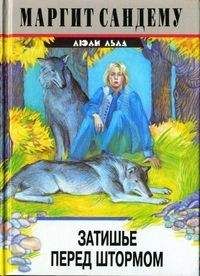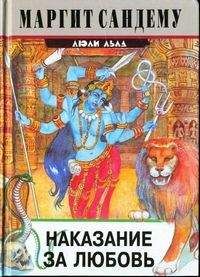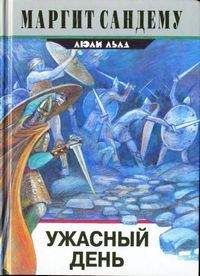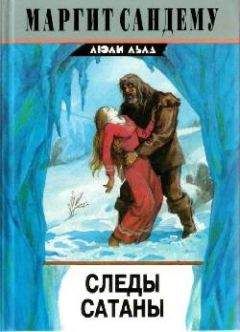Ирэн Фрэн - Клеопатра
И царица действительно сделала это — или нечто подобное. Потому что не успел Антоний вернуться, как они приняли решение распустить кружок «неподражаемых» и немедленно создать вместо него новую ассоциацию, которой дали еще более странное название, чем первой: «Общество совместно стремящихся к смерти».
Зима закончилась. Октавиан, как они знали, в первый же день открытия навигации поднял паруса и взял курс на Восток; но, невзирая на это, во дворце царицы вновь сменяли друг друга праздники и банкеты.
И этот период любви царицы и Антония, несомненно, был прекраснейшим из всех — в смысле чистоты и бескорыстности их чувств; Антоний вернулся к ней сам; что же касается ее, то она уже могла не бояться соперницы (даже такой, как уныние Антония). Их связь теперь представляла не что иное, как совместное ожидание конца; они уже ничего не ждали от жизни, кроме тех радостей, которые в каждое мгновение дарили друг другу.
Согласно Плутарху, они ни в чем себе не отказывали, второй кружок ничуть не уступал первому «в роскоши и расточительности»: «В него записывались друзья, решившиеся умереть вместе с ними, а пока жизнь их обернулась чередою радостных празднеств, которые они задавали по очереди»[118].
Так, с неслыханным блеском были отпразднованы дни рождения Цезариона и Антулла (первому исполнилось шестнадцать, второму — четырнадцать лет)[119]. Этими праздниками руководил Антоний: он пожелал, чтобы на улицах Александрии пели и танцевали; по его распоряжению на всех перекрестках были установлены буфеты и горожане получали бесплатное угощение и выпивку. С тех пор и он, и царица использовали любой предлог, чтобы устраивать все более веселые, и шумные праздники.
И горожане тоже отдались этому праздничному вихрю: они, как и Антоний, искали в нем спасения от страха; ибо все знали, что в первый день открытия навигации Октавиан посадил своих солдат на корабли и вскоре бросит на Египет десятки легионов, которые без труда справятся с армией Антония. Если бы не волна казней, осуществленных по приказу Клеопатры после ее возвращения из Актия, александрийцы подняли бы бунт; но сейчас они не осмеливались на подобные вещи и, не будучи в состоянии ничего предпринять, вели себя так же, как их правители, — пели, танцевали, предавались обжорству.
Не то чтобы горожане, как Антоний и Клеопатра, приготовились совместно умереть, совсем напротив: очевидно было, что при первой тревоге они перейдут на сторону победителя, ибо никогда, никогда больше не допустят, чтобы, как во времена Цезаря, на их улицах воздвигали баррикады, чтобы поджигали их склады, чтобы катапульты бомбардировали их дома. Но Александрия также знала, что с приходом Октавиана что-то в ней самой умрет навсегда — может быть, ее душа, ее очень старая душа, родившаяся из того вдохновенного взгляда, которым однажды утром, три века назад, красивый белокурый юноша впервые окинул здешний песчаный берег. И эту мечту, с которой она прощалась, Александрия, как и ее царица, хотела проводить прекрасным праздником, целиком отдавшись радости настоящего мига.
Однако Клеопатра, хотя и участвовала во всех развлечениях — безмятежная, сияющая, как всегда, острая на язык и безудержная в веселье, — втайне продолжала (с единственным помощником, своим врачом) изучать науку ядов и неутомимо испытывать их на заключенных.
* * *Для уничтожения своих врагов она всегда прибегала к ядам медленного действия, которые приводят человека к смерти лишь по прошествии двух-трех месяцев и создают иллюзию длительной болезни; жертва умирает незаметно, как бы под воздействием тайного недуга; еще в те времена, когда посещала Мусейон и Библиотеку, царица узнала, что самые быстрые яды легче всего обнаружить, а главное, что они вызывают наибольшие мучения.
Ее опыты над приговоренными к смерти подтвердили такой вывод: она видела, как содрогались их тела, как люди, привыкшие всегда сохранять достоинство, издавали крики, низводившие их до уровня животных. Пока она наблюдала за их агонией, мысль о том, что ей придется перенести подобные физические мучения, становилась для нее все более неприемлемой. Но, с другой стороны, выбрав яд медленного действия, она не сможет сохранить контроль над своей смертью. Царица хотела, чтобы ее самоубийство не зависело ни от каких случайностей, чтобы она сама выбрала для него место и время, определила, как именно оно произойдет, то есть, иными словами, превратила его в театральное зрелище; чтобы, как бы ни сложились обстоятельства ее гибели, последнее слово осталось за ней, а не за ее врагом.
Она, разумеется, по-прежнему считала, что ее сокровища ни в коем случае не должны достаться Октавиану; и не нашла другого способа добиться своей цели, кроме того, который обдумывала с начала зимы: поджечь свою гробницу и, когда начнется пожар, заколоть, себя кинжалом. Однако кто мог предсказать, как сложится ее судьба? Может быть, как во время Александрийской войны, она окажется запертой в своем дворце — или в какой-нибудь темнице, под надзором врага, без оружия, без яда, отрезанная от преданных врачей.
Вот почему она неутомимо продолжает свои эксперименты. И, как в годы юности, эти занятия, требующие сосредоточенности и терпения, приносят ей успокоение — именно в них она черпает силы, чтобы потом возвращаться на банкеты «стремящихся к смерти», пить, веселиться, как все остальные, смеяться, радоваться жизни; и чтобы, как и ее друзья, делать вид, будто этим празднествам никогда не будет конца.
* * *Подробностей тогдашних пиршеств мы не знаем, не знаем даже, кто на них присутствовал; во всяком случае, Алексы там не было, потому что он тоже оказался предателем. Он перешел в лагерь Ирода; Антония это известие оставило равнодушным, зато Клеопатра впала в такую ярость, что, если бы могла, удавила всех евреев, какие есть на земле. Немного остыв, она, как обычно, погрузилась в изучение ядовитых веществ — и в праздничные развлечения.
Судя по всему, собрания нового кружка подчинялись строгим ритуалам, известным лишь посвященным в дионисийские мистерии. Вероятно, этот кружок, как и кружок «неподражаемых» или то общество, что присутствовало на организованном Октавианом пародийном празднике, состоял из двенадцати членов; сами же пиршества должны были напоминать те веселые семейные трапезы, которые александрийцы устраивали в своих гробницах, в определенные дни, чтобы обеспечить загробное существование своих дорогих усопших.
Исполняли ли певцы — в залах, где собирались «стремящиеся к смерти», — те старые песни, посредством которых египтяне, вот уже несколько тысячелетий, пытались заглушить свой страх перед иным миром: «Человек благородный и любящий вино, проведи праздничный день в своем доме вечности…»; или знаменитый отрывок из «Беседы разочарованного со своей душой»: «Смерть сегодня встает передо мной, как запах цветов лотоса, как пребывание на берегах опьянения»? Хотелось бы думать, что да, но никаких подтверждений тому у нас нет. Наверняка можно утверждать лишь то, что культ Осириса, с его верой в посмертное воскресение и ритуалами, связанными с питьем вина, уже давно смешался с дионисийскими мистериями. Перед лицом неизбежной смерти адепт греческого бога вполне мог повторить, как свою, формулу, заимствованную из древних египетских книг: «Ты уходишь отсюда не мертвым, но живым…» Но, как бы ни были приятны песни, радостны лица, превосходно вино, вкусна еда, в конце концов наступало утро, и пустыми оказывались кувшины, и увядали цветы в венках, украшавших головы гостей; и тогда кто-нибудь обязательно вспоминал таинственные слова Бога-Освободителя: «Даже в самые счастливые моменты никогда не забывай о судьбе, которая уже здесь».