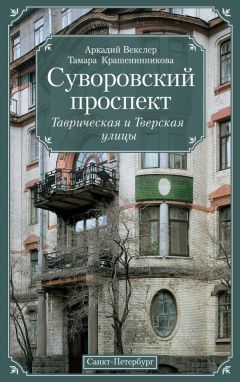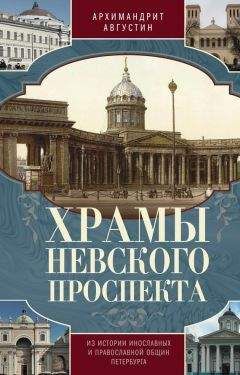Александр Николюкин - Розанов
И в то же время, говорит Розанов, Белинский не понимал народной, деревенской жизни. Для него были только «комнаты», где он вел «идейные разговоры»: не чувствовал коня в поле, коровы в коровнике, собаки на охоте. Только и чувствовал свою редакцию и свой журнал. «Для него есть только читатели, а людей для него вовсе нет. Есть споры об эстетических оценках поэтов, о новых выходящих книгах, о философии Гегеля, о Николаевской железной дороге, на которую во время постройки он выходил посмотреть, как на отдел русского прогресса и на знак сближения нашего с Европой»[655]. Так мог бы, по мысли Розанова, сказать о нем автор «Войны и мира», художник русской жизни во всем ее цветистом многообразии.
Возражая Ю. И. Айхенвальду, упрекавшему Белинского (в книге «Спор о Белинском», 1914) в непоследовательности суждений, Розанов утверждает, что великий критик основал и завещал устойчивую традицию моральных ценностей: «полного чистосердечия и искренности, хотя бы ценою „уронить свой авторитет“. Это есть весьма особливая русская традиция, и пошла она от колеблющегося Белинского, — именно от колебаний его… Закон российский говорить, как думаешь. Худо ли это? Это гордость русской литературы»[656].
Отвергая нападки Айхенвальда, Розанов отнюдь не становится на позицию Белинского. Он действует по великому канону Белинского: говорить то, что думаешь. «Да, Белинский нам (т. е. многим на Руси) — враг, мне — враг, я его не люблю, потому что во множестве сторон он навредил дорогой мне России: но… А сам-то я не „наврежу кое в чем“?»
Мало кто из политических деятелей и мыслителей в России нашего века решился бы сказать о себе такое. Не только вслух сказать, но и допустить в мыслях. Столь сильна сложившаяся не без участия Белинского национальная традиция «правильно мыслить», «правильно говорить» и отвергать всякое инакомыслие, любой плюрализм.
Оставаясь верен своему юношескому преклонению перед Белинским, Розанов, во что бы ни верил он в позднейшие годы, не перечеркивает, не отбрасывает мечты своей молодости, хотя, естественно, не может ею уже ограничиваться. Непреклонная верность раз усвоенным идеям, пусть даже совершенно правильным, неизбежно оборачивается с годами косностью, застоем, «шаблоном», как называл это Розанов. Именно борьба с застоем мысли, которую всю жизнь вел он сам в себе и в других, и составляет то существенное, непреходящее, что волнует нас и сегодня, когда мы берем в руки его книги, статьи.
Такова его «окончательная» оценка великого русского критика: «Белинский велик именно работой своей — дьявольской работой многочтенья, многоисканья, многохлопотанья. Велик и благороден бесценной своей заботой о русской литературе, в ее целостном огромном течении, с библиографией и „мелочами“. Белинский — первый; тщусь сказать и решаюсь, — что он и последний и единственный наш критик, — ибо около него все остальные сказали лишь „кое-что“ и в общем „немного“. Так как таких колоссальных „обзоров словесности“ и стольких лет все новой радости о новых книгах — ни у кого решительно еще за спиною не числится… Его „поход“ — далек, труден, терпелив»[657].
Безмерная любовь к России, говорит Розанов, делает Белинского, хоть и «с книжкой в руках», тоже одним из «гнезда Петрова»:
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям, —
как написал Пушкин в вечный завет всем настоящим русским писателям (стихотворение «Отрок»).
Теория современной литературной критики без Белинского, по словам Розанова, немыслима, хотя цитировать теперь Белинского «просто как-то неловко», настолько он «устарел». Розанов повторяет уже не раз высказывавшуюся им мысль, что критика русская была основана Аполлоном Григорьевым, превосходными критиками были Тургенев, Толстой, Достоевский, а также ученые типа и достоинства Ф. И. Буслаева, Н. С. Тихонравова, В. О. Ключевского (статьи его о пушкинских героинях).
При этом русская критика, литература и философия остаются едины. «Русская критика» есть в то же время «русская философия». «У нас „критика“ — совсем не то, что в Германии, в Англии, во Франции. И не может быть этим. Там, в сложных напластованиях цивилизации, есть „разделение труда“. У нас мужик „все сам работает“, а критик — „за всех один думает“»[658].
Смысл, внутренний стимул критики Розанов видел в отречении от себя и своего в литературе. Критик подобен монаху, который «своего не имеет». Эта мысль особенно близка и прочувствована Василием Васильевичем: «Критик — существо редкое до исключительности, даже странное: любит чужой ум больше своего, чужую фантазию больше своей, чужую мысль больше собственной и, наконец, „полное собрание сочинений“, например, И. А. Гончарова больше, нежели таковое же В. Г. Белинского или Н. К. Михайловского… Тут я осекся: „О Белинском можно сказать, что он смотрел на „собрание сочинений“ Пушкина, Лермонтова или Гоголя с большим восхищением, чем с каким взглянул бы на собрание своих критических статей в издании Тиблена или Солдатенкова, но о Михайловском решительно этого сказать нельзя: ему „свои сочинения“ были дороже, интереснее и важнее хоть Шекспира, хоть Данте… И вот он уже не критик, по этому одному признаку не критик“»[659].
Единственным настоящим и законченным критиком в этом смысле был Белинский, «критик, равного которому едва ли имеет какая другая литература». Он был не только переполнен энтузиазмом ко всему, что вокруг него говорилось, писалось и печаталось, но обладал величайшей восприимчивостью к слову, к мысли. Когда такая восприимчивость поднимается до бесконечности, а собственное творчество падает до нуля — рождается великий критик. «Он будет переваривать, перекаливать, переплавливать чужое: „функция — редкая и страшно нужная в обществе, в истории, в литературе, на которую почти не рождается мастеров. Не рождается для этого гения. У нас это был один Белинский. И вечная ему память“».
Все остальные лишь «имитировали критику», будучи «сами писателями». Быть писателем, считает Розанов, совершенно несовместимо с критикою: «Это — не разные призвания; это призвания, из которых одно убивает другое, расстраивает, ядовитит другое». Возможно, по этой причине Розанов не стал прозаиком-повествователем, а его трилогия вся пронизана критикой.
Розановский «завет» критике как бы обращен в день сегодняшний: «Любите просто критику, любите другого в критике, а не себя… Критика — это бескорыстие; единственный род литературы без отравляющего „я“ в себе. Посему-то она на высоте служения — святая область. Где „я умираю“ для „других“»[660].