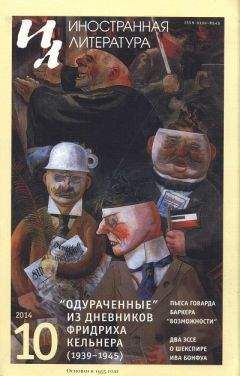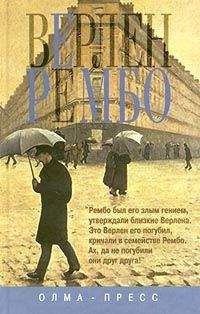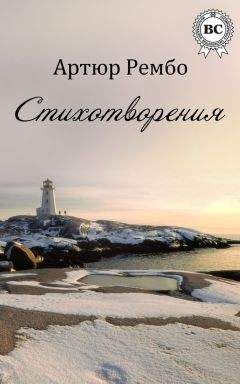Пьер Птифис - Поль Верлен
Обед подавали на старинных тарелках с изображением различных фигур, и присутствующие стали для забавы отыскивать сходство с известными личностями. «А это кто?» — спросили у Верлена. Фигура изображала часовщика в своей мастерской.
— А это мой сын Жорж, которого я больше никогда не увижу.
— Значит, ваш сын часовщик?
— Ну да… знаете… как Наундорф? Во всех великих семьях есть свой Наундорф. Жорж — это мой собственный Наундорф![760]
Потом внезапно на него накатила слабость, ему пришлось оставить друзей и отправиться в постель. Они же остались, чтобы написать несколько писем с просьбами навестить Верлена, в частности Лепеллетье, Пьеру Дозу, Жюлю Ре. Тогда же было принято решение известить Казальса, присутствия которого вот уже несколько раз настойчиво требовал поэт.
Вечер прошел довольно мирно. Судя по статье в вечерней газете, которую Эжени читала Полю, ситуация в Трансваале улаживалась. Теперь он мог заснуть спокойно.
Ночью Поль проснулся от сильных болей в желудке. Камин уже погас, он кашлял, стонал, ворочался без конца. Эжени дала ему микстуру, и, он, казалось, снова заснул. Немного позже он снова проснулся и захотел встать, чтобы справить нужду, но соскользнул с кровати, рухнул на пол и не смог подняться. Эжени попыталась ему помочь, но у нее ничего не вышло. Она не решилась разбудить среди ночи соседку и ограничилась тем, что разложила одеяла, подушку и накрыла периной трясущегося от жара больного, грудь которого разрывал жестокий кашель. Холод, продолжительный контакт с ледяными плитами пола — этого было более чем достаточно, чтобы у Верлена началось воспаление легких.
На следующий день, 8 января, к восьми часам, как только пришла Зели, Эжени с помощью соседки втащила несчастного на кровать. Он был действительно в очень плохом состоянии, его лихорадило, он побледнел, дышал с трудом. Срочно вызвали доктора Паризо, который не стал скрывать, что больной находится в очень тяжелом состоянии.
— Нужно быть готовым ко всему, — сказал он Эжени.
Провожая его до двери, она рассказала доктору о ночном происшествии.
— Но вы не должны были…
Но она, не дослушав, захлопнула дверь. Потом она побежала к Казальсу, который все еще жил в отеле «Лиссабон», улица Вожирар, дом 4. Он пришел в середине дня в сопровождении своего друга, Эдуара Жакмена, рисовальщика из Музея естественной истории, завсегдатая кафе «Прокоп». Взглянув на Поля, Казальс понял, что новый приступ окажется для него смертельным.
— Ну что, — сказал он жизнерадостным тоном, — плохи твои дела? Ты, кажется, подхватил чертов насморк! Не бери в голову, тебя вылечат. С тобой и похуже бывало!
Верлен его остановил:
— Мне конец!
— Брось!
— Конец, я тебе говорю.
Эжени, отведя в сторону обоих посетителей, сказала им по секрету, что доктор считает больного неизлечимым. Он же, услышав шепот в соседней комнате, крикнул:
— Эй, послушайте! Мне еще рано надевать белые тапки!
До поздней ночи Казальс и Жакмен писали срочные письма Барресу, Коппе, Ванье, Викеру, Мореасу, Тайаду и другим.
Послали за доктором Шоффаром — последняя надежда! — который смог только прописать горчичники, чтобы облегчить страдания больного, которому становилось все тяжелее дышать. Он покрывался потом от жара и все время просил, чтобы его перевернули на другой бок. Под действием горчичников ему стало немного легче, дыхание стало менее свистящим, более ровным.
Казальс и Жакмен воспользовались этим, чтобы пойти поужинать, пообещав вскоре вернуться. Они направились к Лорану Тайаду и Габриэлю Викеру, но ни того, ни другого дома не оказалось, потом пошли попросить Мари Кране и г-жу Ле Руж отправить в тот же вечер послания, которые они принесли с собой, ибо знали, что дорог был каждый час.
Пока они бродили в холодной ночи, один журналист из «Эха Парижа», Жорж Стиглер, искал дом поэта. Он описал бедно обставленную квартиру, которая тем не менее содержалась в чистоте. «Как только я вхожу, я слышу чье-то хриплое дыхание, пойдя на звук которого, я попадаю во вторую комнату, в которой мерцает свет тлеющего угля. В тусклом свете лампы я сначала могу различить лишь белую груду, из которой и поднимается сиплый возглас. Я приближаюсь: руки свесились с кровати, лысый лоб покрыт носовым платком, ворот рубашки расстегнут: это Верлен». Журналисту показалось, что от лица больного уже почти ничего не осталось. Он возбужден и с большим трудом может произнести лишь несколько слов по поводу горчичников: «Эта штука жжется![761]»
Здесь Корнюти, а также Эжени и соседка, которые занимают себя никому теперь не нужными хлопотами. Конец близок. Корнюти привел из церкви Сент-Этьен-дю-Мон отца Шёнхенца, высокого голубоглазого эльзасца[762]. У Поля не было сил исповедаться, поэтому священник только причастил умирающего. Таким образом, Бог внял мольбе грешника, который написал в «Счастье»: «Лишь бы был со мной священник, когда буду умирать». Верлен, не открывая глаз, постепенно угасал. Было слышно, как он слабо шепчет: «Снимите с меня… все эти одеяла»[763], а потом — непонятные, оборванные на половине слова, и вдруг, после минуты тишины: «Франсуа…»
Франсуа? Эжени подумала, что он зовет Франсуа Коппе. Другие предполагали, что это мог быть Франсуа Вийон. Нет, вероятней всего, последняя мысль умирающего была о матери, скончавшейся десятью годами ранее, январским вечером, в тупике Сен-Франсуа.
И больше ничего, кроме слабеющего и затихающего хриплого дыхания. Последний вздох был так тих, что никто его не расслышал.
Голова его слегка наклонилась к левому плечу, будто он отворачивается от мира, лицо было спокойно и серьезно. Это лицо аскетическое, прояснившееся, просветлевшее:
О сжалься, Господи, над тьмой моих страданий,
И сердце, взросшее меж тяжких испытаний,
К Тебе влекомое, как рану, исцели![764]
Впервые в жизни Верлен обрел покой.
Ему шел пятьдесят третий год.
Чудесное предвидение! В одном его автобиографическом фрагменте, датировка которого остается неизвестной, мы можем прочитать пророческие слова: «Он и вправду умер, к тому же молодым — в пятьдесят два года!»
Когда около восьми часов вернулись Казальс и Жакмен, все было уже кончено.
Известие о смерти поэта распространилось молниеносно. Вечером первым пришел Морис Баррес и в большом волнении попрощался с покойным. Эжени позволила ему взять на память книгу стихов Сент-Бёва, которая валялась на столе.