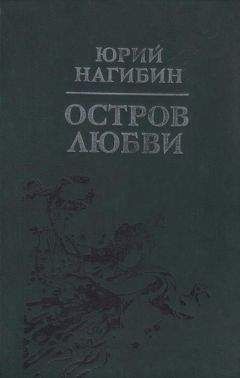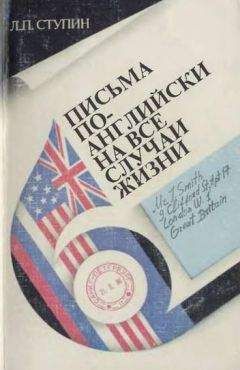Михаил Байтальский - Тетради для внуков
Правильны ли были наши размышления и прогнозы, сейчас, по прошествии полувека, не имеет большого значения, как не имеет значения правильность или ошибочность идей интеллигентов прошлого века, которые шли в народ, устраивали покушения на царя и надеялись, что крестьянин возьмется за топор. Для последующих поколений главное – в нравственном опыте тех, кто осмелился поднять свой голос в эпоху всеобщего молчания.
Наши идеи были по своему объективному содержанию не так уж глубоки, но мы додумались до них сами. Нами двигало то самое чувство справедливости, которое привело нас в комсомол и в партию. У нас не было раболепия перед высшим, не было боязни думать, не было той черты, которая так зримо демонстрирует неинтеллигентность, – стереотипности мысли.
Знания, интеллектуальность, блеск рассуждений – это богатства наживные. Свобода мысли лежит глубже, но созревает в той же сфере – в сфере интеллектуальной. А бесстрашие духа – это достояние нравственное, которое не в зрелые годы наживается, а закладывается смолоду.
Я боюсь, что наша современная молодежь, куда более чем мы богатая первым из перечисленных качеств, и даже та ее часть, которая обладает и вторым, явно обделена третьим – бесстрашием в отстаивании своей умственной свободы, своих мыслей и убеждений.
Страшно идти на сделку со своей совестью. Но еще страшнее, по-моему, не замечать, что это сделка. Не замечаешь – и переступаешь через нее. Переступил раз, другой, третий – и совесть осталась где-то далеко позади.
К тетради второй
1. Возвращаясь памятью к друзьям молодости, стараюсь найти общие для всех черты, которые, в то же время, выделяли бы лучших. Я назвал бы два: искренность и демократизм.
Не лгать никому, жить не по лжи легче всего в обществе, где есть свобода. Обыкновенная свобода высказывать свои мысли без оглядки на инстанции – от низших до высших. Без согласования с обязательными мнениями, напечатанными в газетах, без опасения, что мои слова не понравятся тем, кто стоит надо мною.
В несвободном обществе без лжи не прожить. В условиях несвободы меня постоянно заставляют лгать или, в лучшем случае, скрывать свои мысли. Я отнюдь не идеализирую то, что выше назвал обыкновенной свободой. Она не идеальна. И при ней есть давление хозяина, у которого ты работаешь, рутины, предрассудков, боязнь общественного мнения. Но при всем при том – хозяин не единственный на всю страну, а с общественным мнением можно позволить себе и не считаться. Главное – тебе не могут заткнуть рот.
Надо ясно отличать ложь условностей, необходимых в общежитии для того, чтобы не обижали друг друга в постоянном соприкосновении, от лжи, вызванной страхом перед высшими. Обыкновенное "я вам очень благодарен" не всегда заключает в себе чистейшую правду, но как оно отличается от "спасибо товарищу Сталину за нашу счастливую жизнь!"
В моей жизни было только лет пять, а может, и того меньше, когда от меня никто не ждал и не требовал лжи и лицемерия. Наше увлечение идеями революции, наше чувство к Ленину, наша ненависть к буржуазии – все это шло из глубины души. Мне могут сказать: вы верили в ложное учение. Но я не разбираю здесь вопрос об истинности учения, я говорю лишь об искренности поведения. И не стану я доказывать истинность или ложность учения тем, как ведут себя его приверженцы. Это имеет известное значение, но доказывать истину надо опираясь не на один этот факт, а на более обширную группу фактов.
Мы были искренни прежде всего потому, что совершенно свободно выбрали свои взгляды. Кто не разделял их, мог не вступать в комсомол – тогда еще не было стремления поголовно всех "вовлечь", и не было никаких привилегий для комсомольцев, и не было пионерской организации с поголовным участием в ней всех детей.
Комсомол был доброволен и потому не лжив и не лицемерен в самом своем истоке – в коммунистической вере, чистой и незамутненной, какой, вероятно, была вера в первых дохристианских общинах на берегу Мертвого моря, с их Учителем Справедливости и с чтением Святого Писания по многу часов в сутки. Так и мы без скуки проводили целые вечера в своем клубе, а сегодня и часу на собрании не усидим.
Ничто не принуждало нас верить в непогрешимость марксистской истины. Верили те, кого захватил вихрь революции. Другие могли не верить – с них никакого спросу не было.
Принуждение, конечно, существовало – но это было прямое принуждение, которое в лжи не нуждается. Например, крестьян принуждали сдавать хлеб по продразверстке – это была тяжкая повинность и бесспорная несвобода. Но от крестьян не требовали сдавать свой хлеб с сияющим от счастья лицом, да еще подписывать рапорт вождю.
Господство штыка уродует властителей, но не подвластных. Господство лжи уродует все общество сверху донизу.
Я не считаю, что романтичность можно также считать нашей отличной чертой. Романтичность – общее свойство молодых – без искренности не существует. Но искренность без романтизма вполне возможна. Далеко не все мы были романтиками. Мы искали справедливости, а поиски справедливости не укладываются в поиски романтики.
Демократизм имеет прямое касательство к искренности в отношениях между людьми. Я говорю не о демократии, как общественном институте, а о демократизме как элементе общественных нравов.
Февральская революция открыла эру демократизма: митинги, выборы, обсуждения… Демократизм, внезапно открывшийся народу, который веками воспитывался в покорности, нередко выражается в искривлениях, в перехлестываниях, является грубым, жестоким и в конечном счете – ненадежным. Но мы были еще юны, огрубеть не успели, чинопочитания не усвоили (это очень важно, об этом я рассказал в своих тетрадях) – и наш демократизм был несколько иным. Он имел одну важную особенность: мы рассматривали себя как людей будущего. Никакой торжественностью и спесью это сознание не облекалось, напротив, оно казалось само собой разумеющимся и будничным. Мы несли в себе демократизм как сознание чего-то вроде миссии – прекрасной миссии всеобщего равенства людей.
Только в молодости на почве обычной юношеской простоты отношений может вырасти подобное внутреннее ощущение. Оно и было, мне кажется, психологической подкладкой нашего поворота к оппозиции двадцатых годов.
Большинство из нас пришло в оппозицию не по теоретическому научному пути – какие мы были теоретики в двадцать лет? Мы шли по простой внутренней логике, мы стояли перед выбором: демократизм или подавление права быть искренним; право иметь свое мнение – или отсутствие этого права. И мы выбрали.
2. Читатель, печально разочаровавшийся в украшательской литературе, скажет: вот еще один лакировщик. Старик по-обычному приукрашивает свою комсомольскую юность.