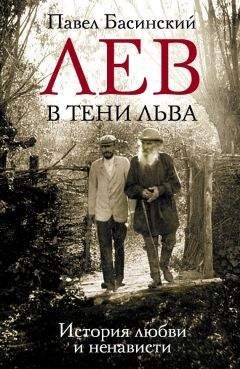Павел Басинский - Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды
На все отдельные мысли Толстого отвечать не стоит, так они явно нелепы, богохульны и нетерпимы для христианского чувства и слуха, так они противоречивы и бьют сами себя и окончательно убили душу самого Льва Толстого и сделали для него совершенно невозможным обращение к свету истины.
Не отвещай безумному по безумию его, – говорит премудрый Соломон, – да не подобен ему будеши (Притч. 26:4). И действительно, если отвечать Толстому по безумию его на все его бессмысленные хулы, то сам уподобишься ему и заразишься от него тлетворным смрадом. Но отвещай безумному по безумию его, – продолжает Соломон, в другом смысле, – да не явится мудр у себе (26:5). И я ответил безумному по безумию его, чтоб он не показался в глазах своих мудрым пред собою, но действительным безумцем.
Разве не безумие отвергать личного, всеблагого, премудрого, праведного, вечного, всемогущего Творца, единого по существу и троичного в Лицах, когда в самой душе человеческой, в ее едином существе находятся три равные силы: ум, сердце и воля по образу трех Лиц Божества?
Разве человечество не уважает в числах число три более всех чисел и чрез то по самой природе своей чтит Троицу, создавшую тварь?
Разве человечество не чувствует своего падения и крайней нужды в искуплении и Искупителе?
Разве Бог не есть Бог чудес, и самое существование мира разве не есть величайшее чудо?
Разве человечество не верует в происхождение свое от одного праотца?
Разве оно не верует в потоп?
Разве не верит в ад, в воздаяние по делам, в блаженство праведных, хотя не всё по откровению слова Божия?
Разве Толстому не жестоко идти против рожна?
Можно ли разглагольствовать с Толстым, отвергающим Альфу и Омегу – начало и конец?
Как говорить серьезно с человеком, который не верит, что А есть А, Б есть Б?
Не стоит отвечать безумному по безумию его.
Главная магистральная ошибка Льва Толстого заключается в том, что он, считая Нагорную проповедь Христа и слово Его о непротивлении злу, превратно им истолкованное, за исходную точку своего сочинения, вовсе не понял ни Нагорной проповеди, ни заповеди о непротивлении злу.
Первая заповедь в Нагорной проповеди есть заповедь о нищете духовной и нужде смирения и покаяния, которые суть основание христианской жизни, а Толстой возгордился, как сатана, и не признает нужды покаяния, и какими-то своими силами надеется достигнуть совершенства без Христа и благодати Его, без веры в искупительные Его страдания и смерть, а под непротивлением злу разумеет потворство всякому злу, по существу – непротивление греху или поблажку греху и страстям человеческим, и пролагает торную дорогу всякому беззаконию, и таким образом делается величайшим пособником дьяволу, губящему род человеческий, и самым отъявленным противником Христу. Вместо того чтобы скорбеть и сокрушаться о грехах своих и людских, Толстой мечтает о себе как о совершенном человеке или сверхчеловеке, как мечтал известный сумасшедший Ницше; между тем что в людях высоко, то есть мерзость пред Богом.
Первым словом Спасителя грешным людям была заповедь о покаянии. Оттоле начат Иисус проповедати и глаголати: «Покайтеся, приближи бо се царство небесное», а Толстой говорит: «Не кайтесь, покаяние есть малодушие, нелепость, мы без покаяния, без Христа, своим разумом достигнем совершенства, да и достигли»; говорит: «Посмотрите на прогресс человеческого разума, человеческих познаний, литературы романической, исторической, философской; разных изобретений, фабричных изделий, железных дорог, телеграфов, телефонов, фонографов, граммофонов, аэростатов».
Для Толстого нет высшего духовного совершенства в смысле достижения христианских добродетелей – простоты, смирения, чистоты сердечной, целомудрия, молитвы, покаяния, веры, надежды, любви в христианском смысле; христианского подвига он не признает; над святостью и святыми смеется, сам себя он обожает, себе поклоняется, как кумиру, как сверхчеловеку. «Я, и никто кроме меня, – мечтает Толстой. – Вы все заблуждаетесь; я открыл истину и учу всех людей истине!» Евангелие, по Толстому, вымысел и сказка.
Ну кто же, православные, кто такой Лев Толстой?
Это Лев рыкающий, ищущий, кого поглотить. И скольких он поглотил чрез свои льстивые листки!
Берегитесь его.
ПИСЬМО Д.А.ХИЛКОВА к Л.Н.ТОЛСТОМУ
…На днях к одной помещице, Калугиной, недалеко от нас, приехал кронштадтский священник Иоанн. Моя мать поехала к нему. На другой день, т. е. вчера, она опять поехала, просила меня поехать, и я поехал. Я про этого священника раньше слышал, и мне хотелось его видеть. Мне казалось, что он искренний человек, и я думал, что в его случае возможно совмещение обрядности с добротой, искренностью, любовью к людям и верою в учение Иисуса.
Мы рано поехали и к 8 часам были уже в Николаевке – имение Калугиных. Там две церкви. Одна приходская, другая, в саду – принадлежащая Калугиным. Около приходской церкви стояла целая ярмарка: распряженные возы, фаэтоны и таратайки. Сидели торговки и продавали разные вещи. Около ограды сада и около всех ворот и калиток – урядники, сотские и десятские. Ворота полуоткрыты, и вход беспрепятственный для всех. Моя мать пошла в церковь, а я в сад и сел около пруда.
Церковь была полна народа, и моя мать просила знакомого станового ее провести. Он вошел в церковь и громко возгласил: «Расступитесь! княгиня идет!» Расступились, а священник продолжал службу. Когда кончалась обедня и стали подходить под благословение, то до меня стали доноситься возгласы: «Гони сих в шею! Куда лезете, черти?» И т. п. После этого всех выпроводили за ворота, и ворота заперли.
Я пошел туда, где священник Иоанн должен был пить чай. Много господ, знакомых Калугиных, его ждали. Когда он пришел, моя мать что-то ему сказала, и он направился ко мне. На нем был белый подрясник (мне почему-то этот подрясник весь день казался кителем), соломенная шляпа, движения быстрые, руки часто в боки берет; первые слова его были: «Ну, здравствуй, сын мой». Тон пренебрежительный, начальнически-насмешливый. Мне не понравилось, но я подумал: это он так сильно верует, что ему дико, что я в церковь не пошел. Потом похлопал рукой по голове и руку дает. Я ее пожал. Скулы у него чуть-чуть покраснели. Спросил, есть ли дети. Сколько сыну времени, крещен ли? (Всё это он знал раньше и сказал моей матери, чтобы я приехал, а то бы я не поехал или поехал бы отдельно.) Я говорю: «Нет». Он говорит: «Почему?» Я говорю, видя, что он сердится и правую руку в бок вставил, что мне кажется, что лучше об этом не говорить, что чай его ждет и что вряд ли ему интересны мои причины. Он смягчился, показывает мне Евангелие и говорит: «Веруете в это?» Я говорю: «Верю». – «А в Церковь верите?» – «Нет, – говорю, – не верю». Покраснел, и злость в глазах появилась. «Это, – говорит, – гордость, мракобесие» и т. д. Я вижу, что лучше не говорить ничего, и опять напоминаю о чае и о всех, нас окружающих, которые его ждут. Он настаивает: «Крестите, Иоанн крестил». Я говорю: «Как же Иоанн крестил, когда Иисус не был еще распят, и слова этого не было?» Он говорит: «Ну, обмывал. Иисус всех крестил». Я спрашиваю: «Как?» Он говорит: «Водой». Я спрашиваю: «Какой? Ведь вода разная бывает. Есть вода, что в реках и колодцах, и есть та, которую Иисус обещал дать самарянке; так какой же крестил?» Он разразился целым потоком слов в обличение моего невежества, гордости, мракобесия и закончил так: «С вами говорить нельзя; я прекращаю с вами разговор». Подошел к стулу, с шумом его повернул и сел.