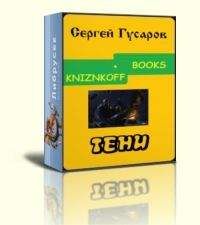Сергей Снегов - Книга бытия (с иллюстрациями)
Утром, уходя за газетами в типографию, мама разбудила меня.
— Тебе телеграмма. Завел друзей! Письма их не устраивают — общаются по телеграфу.
Еще не вполне проснувшись, я несколько раз перечел странную фразу: «Принц холодных улиц, найдите меня сегодня».
Когда до меня дошел ее смысл, я вскочил. Телеграмма была от Фиры — она уже называла меня принцем (почему?). Но куда бежать? Если она дома, зачем ее искать — нужно только повернуть два раза ручку звонка и войти. А если вне, то где — в институте? У друзей? На улице? У меня никогда не было детективного чутья… В конце концов я решил: искать надо вечером, а не днем. И у нее дома.
День прошел в чаду. Я томился — из-за грядущей встречи и нового имени. «Принц холодных улиц!» — восторженно твердил я. Ну, принц — это еще так-сяк, некоторое, прямо скажем, преувеличение. Но холодные улицы!
Как ярко, как точно… Это же мой мир. Если и суждено мне где-то властвовать, то на продуваемых жгучим ветром мостовых, на иное не соглашусь!..
…Спустя много лет, в морозную зиму Заполярья (до полюса ближе, чем до железной дороги), уже коронованный полярным сиянием, я опять вспомнил тот солнечно-яркий холодный день.
Десять лет назад я встречал тебя,
Как подарок, распахнутая зима.
И влюбленная девушка в этот день
«Принц холодных улиц» — писала мне.
Принц холодных улиц! Твой снег сверкал
Тысячью приветствующих огней,
И бушующий ветер твой, снежный принц,
Горячил молодую кровь.
И вся жизнь впереди, как ночной буран,
И в метель казалась цветущей весной.
Я — король сегодня. Король снегов,
Царь уборных с замерзшей в гранит мочой.
Император кусочка гнилого льда.
И весна не ждет меня впереди,
Нет, не ждет. Крепок трон мой. Крепка моя
Абсолютная власть над черной пургой,
Над морозным туманом и льдом. Меня
Не встречает ни радостный поцелуй,
Ни влюбленные руки. Одна зима
И все крепче морозы. О, пусть скорей
Я костями сложу эту власть короля
В королевство проклятое льдов моих!
В окнах уже загорались огни, когда я дважды повернул ручку звонка и услышал торопливый перестук каблучков.
— Я боялась, что вы не придете, — сказала Фира, не отпуская моей руки.
— Почему?
— Мне показалось, что вы рассердились: я не так читала Татьяну.
— Вы читали изумительно! Я слышу ваш голос, когда остаюсь один. Я с вами, когда вас нет, — так это теперь происходит.
— Меня это устраивает, — весело объявила она, удобно сворачиваясь на диване. — Бедные Митя и Айседора!
— Я их не обижал.
— Их обидела я. Я расстроилась, что вы так внезапно ушли, и выгнала обоих. Не хочу больше о них говорить! Что мы будем делать, Сергей?
— Вы будете читать стихи, а я — слушать.
— Вы умеете слушать? Все знают, что вы умеете говорить.
— Можете убедиться, что я лучше слушаю, чем говорю.
— Что вам прочесть?
— Что хотите.
— Тогда не Пушкина и не Толстого, а что-нибудь полегкомысленней. Слушайте Веру Инбер.
Мама, завтра будет праздница?
Праздник, Жанна, говорят.
Все равно, какая разница.
Лишь бы дали шоколад.
Будет все, мой мальчик маленький,
Будет даже детский бал.
Утром, знаешь, в старом валенке
Дворник мышку увидал.
Мама, ты всегда проказница!
Я не мальчик, я же дочь!
Все равно, какая разница!
Спи, мой мальчик, скоро ночь.
— Ничего себе легкомысленность! — засмеялся я. — По-моему, это трагическое стихотворение. Я не люблю Инбер, но это хорошо.
— Будете слушать еще?
— Хоть до утра.
Так шел час за часом. В коридоре гулко прозвучал один удар — время зашкалило за полночь. Нужно было уходить. Фира вскочила.
— Уже уходите? Вы обещали остаться до утра.
У нее тяжело прервалось дыхание. Я тоже задохнулся. У меня свело горло.
— Останьтесь, — шепнула она.
— Останусь, — ответил я.
Она погасила лампу. Луна была уже на ущербе, но в ее полусвете я видел, как Фира быстро двигалась по комнате. Она достала из диванного ящика подушку и простыни, накрыла диван, начала раздеваться. Я тоже стал раздеваться, но, уже полураздетый, вспомнил, что оставил обувь в коридоре. Фира накинула платье, выскользнула за дверь и принесла мои ботинки.
— Теперь никто не узнает, что я не одна, — прошептала она.
— А мама не придет? — забеспокоился я.
— Не придет. Потом объясню — почему.
Я прикоснулся к ней, притянул к себе. Я впервые трогал голую женщину. Я долго не мог убрать руки, а когда стал настойчивей, она задрожала и оттолкнула меня.
— Ты не хочешь? — пробормотал я растерянно.
— Хочу, очень хочу, но ты сделал мне больно, — шепнула она.
Мы лежали, прижимаясь телами, не отрывая друг от друга губ, потом я снова стиснул ее — и снова она меня оттолкнула, почти громко простонав: «Пусти, пусти, мне же больно!»
И мы опять лежали не двигаясь, и опять припадали друг к другу, и опять целовались, счастливые и подавленные, — девственник и девственница, не сумевшие покончить со своей девственностью.
Потом, вспоминая, я часто думал, что виной этому была не только наша неопытность. Просто я слишком много знал о любви, ни разу ее не испытав. Я твердо помнил предупреждение Фрейда: первая близость может вызвать у женщины скрытую ненависть — если мужчина будет грубым. Тихий стон: «Мне больно!» оглушил меня угрозой. Я не осмелился причинить боль. Это было странное состояние: хотеть и мочь — и одновременно не хотеть мочь.
Оба окна туманно засветились.
— Уже утро, — прошептал она. — Какое сегодня число?
— Второе февраля 1930 года, — ответил я. — День нашей свадьбы.
— Мы еще не поженились.
— Сегодня после лекций пойдем в загс.
Она ничего не ответила. Она лежала и смотрела в потолок. Я испугался: наверное, она злится на меня — я не должен был ее отпускать! Я вел себя нерешительно, а женщины часто путают бесцеремонность и силу.
— Ты не хочешь стать моей женой, Фира?
— Очень хочу. Но есть препятствия. Встретимся после лекции — расскажу. Постой, кажется, кто-то вышел в коридор.
Она вскочила с дивана и подкралась к двери. Я залюбовался. Голая Фира была прекрасна. Потом она часто ходила передо мной обнаженная, и я со смехом цитировал ей Кнута Гамсуна: «И к нему вошла Изелинда — нагая и греховная с головы до ног». Греховной Фира оставалась долго, а точеную фигурку стала терять вскоре после родов.