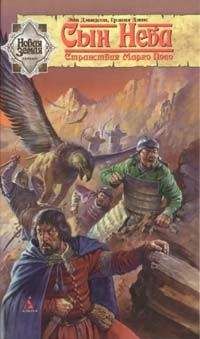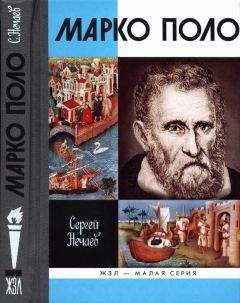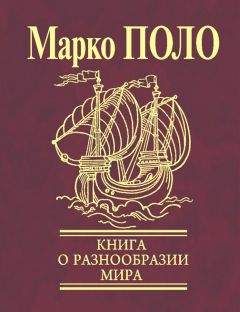Геннадий Горелик - Андрей Сахаров. Наука и свобода
Такое отношение не мешало ему видеть их различия.
Прочитав в 1978 году рукопись книги Чуковской о событиях 1973—1974 годов («Процесс исключения»), он записал в дневнике, что видит у нее элемент мифологизации: «Я не добровольный жрец идеи, а просто человек с необычной судьбой. Я против всяческих самосожжений (и себя, и других, в том числе близких людей)».[520]
Через день, побывав у нее в гостях, он записал: «Разговор с Л[идией] К[орнеевной] о ее книге был спокойным. Я сказал, что думаю».
Говорили они в тот вечер, конечно, не только о книге, и гости пришли не с пустыми руками, учитывая, что то был день Страстной Субботы:
Мы подарили Л.К. два яйца, окрашенные по ген[иальной] идее Люси. (До кипячения в лук[овой] шелухе на яйца наклеиваются полоски и кусочки лейкопластыря; Люся делала свое яйцо первой — для Л.К., я поздней — для Люши,[521] т. к. мое было красивей, то мы с Люсей обменялись авторством — договорились так сказать Л.К.).[522]
В «Воспоминаниях», которые Сахаров писал в горьковской ссылке, он вернулся к статье Чуковской «Гнев народа»:
мой образ в этой статье предстает несколько идеализированным и более целеустремленным, единонаправленным, чем это имеет место на самом деле, и в то же время чуть-чуть более наивным и более чистым.
Лишь претензия к излишней чистоте сама себя опровергает — так может сказать только очень чистый человек.
Другие элементы идеализации связаны прежде всего с тем, что Чуковская, рисуя портрет Сахарова, не знала реальных — непростых и во многом секретных — обстоятельств, которые привели его к крутому жизненному повороту в 1968 году.
Однако сам Сахаров за этой идеализацией видел то, что он назвал — весьма неопределенно — «идеологическими аберрациями». Сохранились его заметки, из которых можно понять, что он имел в виду, и ясно видно, что его неопределенность в «Воспоминаниях» связана с тем, что он «крайне бы не хотел» обидеть:
Для Лидии Корнеевны, как мне представляется, важными являются нравственные и культурные проблемы, а не политические. Эта ее позиция — активная и бесстрашная — близка и понятна мне, вызывает глубокое уважение. <> Но иногда, как мне кажется, в оценках Лидии Корнеевны появляются огорчающие черты некой элитарности, что ли, не знаю как назвать, — некая потеря общечеловеческого подхода, широты и терпимости.
Он высказал предположение: «Это — оборотная сторона культа культуры», но зачеркнул его и завершил совсем не обидно: «Мне не хочется углубляться в эту тему, быть может, я вообще тут не прав…»[523]
Даже если Сахаров тут неправ, ясно одно — его чувство собственной неэлитарности. Этим недостатком он отличался от многих людей своего круга.
Капица, в 30-е годы насильно задержанный в СССР и лишенный возможности заниматься своим делом, сравнивал себя со скрипкой, которой забивают гвозди.[524] В таком сравнении легче увидеть здравый смысл, чем элитарное высокомерие. И нечто подобное было, видимо, на уме у тех, кто не мог понять, зачем Сахаров тратит себя на «правозащитную текучку».
Во время голодовки Сахаров получил телеграмму: «Разделяю Ваши цели, но уговариваю прекратить, ради общего пожертвовать частным» и поставил этому своему доброжелателю жесткий диагноз — «тоталитарное мышление!».
Тоталитарное мышление — рассматривать человека «как средство решения каких-то задач», даже если это задачи правозащитные, и пренебрегать правом человека принимать решение, касающееся его самого. Ведь решение начать голодовку Сахаров с женой «приняли как свободные люди, вполне понимая его серьезность, и мы оба несли за него ответственность, и только мы. В каком-то смысле это было наше личное, интимное дело».
Непонимание близких людей огорчало Сахарова и как частного человека, и как социального мыслителя.
Общее и частное взаимосвязано в идеологии и психологии прав человека: только ценя свои собственные права, человек может по-настоящему уважать права другого. В этом смысле Сахаров был индивидуалистом — последовательным индивидуалистом.
В советском языке индивидуализм воспринимался синонимом эгоизма и как противоположность коллективизма. Философия прав человека меняет это соотношение радикально, утверждая, что благополучие общества в целом достижимо только через соблюдение прав индивидуума: «Разобщенность [западного общества] — это для меня оборотная сторона плюрализма, свободы и уважения к индивидууму — этих важнейших источников силы и гибкости общества».
Последовательному индивидуалисту легче принять общественное значение прав человека. Сахаров противостоял и тоталитарному правительству, и тоталитарному мышлению, укоренившемуся в обществе.
Много раньше и по другому поводу — в 1958 году по поводу опасности радиоуглерода — он писал:
Лишь при крайнем недостатке воображения можно игнорировать те страдания, которые происходят не «на-глазах».[525]
Индивидуалист с воображением, Сахаров принимал к сердцу страдания индивидуумов, ставших узниками совести, политическими узниками советских тюрем и лагерей. Они были для него не десятками-и-сотнями, а единицами — каждый с именем и биографией. О многих биографиях, к которым Сахаров сам прикоснулся, рассказал он в «Воспоминаниях». Он беседовал с этими людьми, присутствовал на их судебных процессах, иногда далеко от Москвы — в Омске, Ташкенте. Владимир Шелков, Георгий Вине, Мустафа Джемилев, Фридрих Руппель, Ефим Давидович… Каждый из этих людей воплощал какую-то социальную боль — религиозные преследования, запрет на возвращение крымских татар на свою родину, препятствия немецкой и еврейской эмиграции. Но каждый из них был для Сахарова «просто» человеком, права которого попираются.
В нобелевской лекции 1975 года Сахаров объяснял свое убеждение, что мир, прогресс и права человека — три цели, неразрывно связанные. И в эту же лекцию он включил перечень из более чем ста имен, добавив при этом:
Я не мог назвать всех известных мне узников за неимением места, еще больше я не знаю или не имею под рукой справки. Но я всех подразумеваю мысленно и всех не названных явно прошу извинить меня. За каждым названным и не названным именем — трудная и героическая человеческая судьба, годы страданий, годы борьбы за человеческое достоинство.[526]