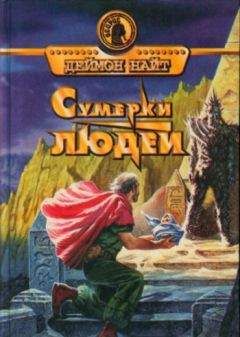Великая Княгиня Мария Павловна - Воспоминания
После непродолжительного ухаживания Дмитрий со всем юношеским пылом был готов сделать предложение, но все еще не был уверен в ответе. Не забуду того вечера, когда он наконец решился услышать отказ. Я была дома, в одиночестве поужинала и рассчитывала дождаться его возвращения. Он задерживался, пора было укладываться спать. И только я легла, во двор въехал автомобиль. Звякнули ворота, под знакомыми шагами проскрипел гравий. Внизу отворилась и закрылась дверь. Я уже была на ногах, накинула на плечи халат и встала в дверях. Дмитрий поднимался по лестнице. Сначала я увидела его макушку, потом и все лицо. Оно сияло детским восторгом. Пока он подходил ко мне, я заметила, что он чуть смущается, и это растрогало меня сильнее всяких слов. Мы вернулись ко мне, я забралась в постель, Дмитрий свернулся у меня в ногах. Не было нужды говорить, что его предложение приняли, но мне хотелось подробностей, и он снова и снова пересказывал их — и что он сказал, и что она ответила, и где они стояли, и где потом сели. Уже рассветало, когда мы расстались. Он ушел, я осталась одна, и сон не сморил меня.
Вскоре Одри с семьей уехала в Биарриц; потом к ним отправился Дмитрий. Свадьбу назначили там же осенью. В два оставшихся месяца надо было переделать массу дел, я не знала минуты отдыха — ведь на мне была еще моя работа. Несколько раз я ездила в Биарриц на выходные. Я ближе узнала будущую невестку, и уже тогда нас крепко связала дружба, доселе нерасторжимая.
Чтобы ближе быть к Дмитрию и русским, Одри решила принять православие. Нужно было соответствующим образом подготовить ее к этому, и я взялась хлопотать о том, чтобы наставить ее в новой вере. Я даже не представляла, насколько это окажется трудным делом. Наши батюшки не знали английского языка, только некоторые кое как говорили по французски, и Олдри не могла их понять. Наконец отыскался юный выученик Парижской православной семинарии, который, сказали мне, немного знал по–английски. Времени оставалось совсем мало, и я поручила ему наставлять Одри, даже не повидав его и не переговорив. Разумеется, я тоже должна была присутствовать на уроках, которые имели место у меня в конторе. Никогда не забуду первое занятие. Юный семинарист пришел в сопровождении священника. Оба сели рядышком против Одри, а она заняла мое место за столом. И оба заговорили одновременно — священник на плохоньком французском, а семинарист не очень внятно по–английски. Настроение было самое истовое. Посерьезневшая Одри озадаченно переводила взгляд с одного на другого, пытаясь понять смысл сказанного. Понять что либо было трудно даже мне, а уж она, конечно, не поняла ни слова. Поверх их голов я порою ловила ее растерянный взгляд. Я недолго терпела эту пытку. Давясь от смеха, я поспешила уйти, пока она не успела этого заметить.
Близился день свадьбы. Ее назначили на 21 ноября, отъезду в Биарриц предшествовал гражданский обряд бракосочетания в Париже, точнее, в муниципалитете Булонь–сюр–Сен, где мы были зарегистрированы. Одри с семейством, княгиня Палей, мои сводные сестры, свидетели (в их числе посол Херрик) и несколько приглашенных гостей — все собрались у меня и отправились в крохотную мэрию, вероятно, впервые подвергшуюся такому нашествию. Секретарь рассадил нас по скамьям в зале, и мы стали ждать мэра. Отворились двери, мы, как принято, встали; смущаясь и ни на кого не глядя, невысокий плотный господин быстро прошел на свое место. Наискось скромного коричневого костюма змеилась трехцветная лента, знак его властных полномочий. Началась церемония. Не привыкший к иностранным именам и титулам, мэр ни одного не сказал правильно.
В тот же вечер мы уехали в Биарриц. Мы с Дмитрием остановились в отеле. На следующий день приехавшие из Парижа епископ и священники крестили Одри в православную веру. Восприемниками были я и наш кузен герцог Лейхтенбергский. Это долгий и утомительный обряд, и я очень сочувствовала Одри, не понимавшей ни единого слова.
Утром 21 ноября, в день венчания, я поднялась с чувством, которое мне трудно передать. До этого я была в делах и не задумывалась о себе, теперь так уже не получится. В полдень пошли к обедне, на ней пел знаменитый хор Русского кафедрального собора в Париже. Послушать пение пришли некоторые наши друзья по Биаррицу и приехавшие на свадьбу парижские гости. Церковь смотрелась празднично. Ее уже убрали к венчанию, которое пройдет позже. Ослепительно сверкало осеннее солнце; его лучи, струясь сквозь витражные стекла, пестрили цветными пятнами пол и стены. Войдя в церковь, я сразу ощутила нечто необычное в воздухе, какую то одухотворенную трепетность. Голоса священников были исполнены чувства, хор вкладывал всю душу в пение. И это ощущение только нарастало, пока шла служба. На краткое время мы перестали быть только беженцами. Даже те, кто пришел из любопытства, были захвачены общим настроением. При вознесении даров мы опустились на колени, и следом стали на колени иностранцы; у многих в глазах стояли слезы.
Оставив гостей обедать в отеле, я отправилась к матери Одри. Одри просила помочь ей управиться с фатой, в которой венчались и я, и моя матушка. Это прекрасное старое кружево среди немногого я уберегла и вывезла из России. Перед побегом я увязала фату и еще какие то кружева в подушку, на которой потом спала в дороге. От волнения мы с Одри едва могли говорить, у меня перехватывало горло. Я понимала, какие чувства переживает Одри, но не могла посочувствовать ей, чтобы самой не сорваться.
Когда я вернулась в отель, было уже время переодеваться. Дмитрий был у себя в комнате; все утро мы избегали оставаться наедине, почти не говорили друг с другом. По обычаю, перед тем как идти к венчанию, я должна была благословить его, заместив наших родителей, и вот этой минуты мы оба страшились. Но сколько мы ни откладывали ее, эта минута пришла. Собравшись, я вышла в гостиную, разделявшую наши комнаты, и стала его ждать. За окном огромные волны бились о скалы; солнце село. Седой океан предстал мне в ту минуту жестоким и равнодушным, как судьба, и еще бесконечно одиноким. В черном костюме, с белым цветком в петлице вошел Дмитрий, и мы неуверенно улыбнулись друг другу. Я вернулась в спальню и вынесла икону. Дмитрий стал на колени, и я иконой перекрестила его склоненную голову. Он поднялся, мы обнялись. Я судорожно прижалась к нему. Горло перехватило так, что я не могла дышать.
В дверь постучали; пора идти в церковь. Не видя себя в зеркале, я надела шляпку, подхватила пальто. Из отеля через маленькую площадь мы направились к церкви. Расступившаяся толпа перед входом пропустила нас. На паперти нас ждали товарищи жениха, в основном офицеры–однополчане Дмитрия. Пробираясь в набитой народом церкви, я ловила взгляды любопытствующих. Дмитрий оставался в дверях, ожидая, согласно обряду, псалмопения. А хор молчал в благоговейном трепете; нескоро начали певчие, и то нестройными голосами. Я только раз оглянулась на брата, застывшего в дверях; у него было бледное строгое лицо. И тут меня отпустило, я залилась слезами.