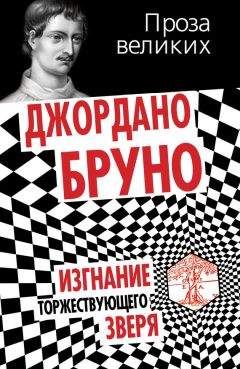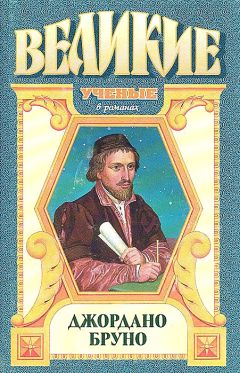Семeн Бронин - История моей матери. Роман-биография
— Это ваше? — как бы невзначай по-русски спросил он, но Яков, естественно, не моргнул в ответ и глазом. — А какими языками вы владеете? — спросил Прокофьев уже по-английски.
— Английским и немецким. Немного шведским, — добавил Яков, подпуская тумана. — Но больше я ничего говорить не буду, поскольку протестую против незаконного и насильственного задержания.
— Скажи что-нибудь по-шведски, — попросил Прокофьев высокорослого соседа-блондина. Тот сказал на своем языке «Доброе утро, приветствуем вас в нашем доме», Прокофьев попросил арестованного перевести — Яков пренебрежительно отмолчался. Тогда Прокофьев сказал, уже по-русски, нечто оскорбительное и угрожающее: обратился с этим к шведу, а сам скосил глаза на Якова, изучая движения его лица, заволоченного тучами. Яков снова бровью не повел, но лицо его словно окаменело — из этого Прокофьев вывел, что русский он все-таки знает и по-видимому не так уж плохо. Яков и это понял и посмотрел на него в эту минуту особенно дерзко, почти нагло — Прокофьев первый отвел глаза в сторону. Сделал он это не потому, что не выдержал дуэли, а потому, что она напомнила ему прежние, старые бои в его отечестве и преисполнила его душу гневом, желчью и яростью. Его соперника нельзя было недооценивать: в его взгляде скрывалась угроза. В России у Прокофьева остались родственники: не родители, которые они рано скончались, и не своя семья, так как он не успел жениться, а многочисленные дядья и тетки, особенно дорогие его сердцу, потому что ближе никого не было. Можно было оставить все как есть, устраниться от дела, предоставить англичанам и китайцам эту крупную птицу, случайно угодившую в их сети, но Прокофьев не мог на это пойти. Всякая классовая борьба, учат классики марксизма, имеет свою логику, и заключается она в конечном поголовном изничтожении всех ее участников, на что те идут вполне сознательно, хоть и знают наперед, чем все кончится.
Прокофьев положил драгоценную бумажку в планшет и предоставил сотрудникам довершать обыск и доискиваться того, что, возможно, прошло еще незамеченным, а сам направился в штаб-квартиру своего управления: будить дежурного и настаивать на срочной встрече с генералом, которому нужно было еще втолковать важность происходящего. Его новые руководители не отличались гибкостью ума, откровенно позевывали при разговорах о деле и предпочитали обсуждать давние охоты: будто жили не в охваченном гражданской войной Китае, а где-нибудь в Индии, двести лет назад ими покоренной и приведенной в состояние бездействия и безмолвия.
Якова, которому пока так и не отдали брюк галифе и френча, словно они с их содержимым должны были предстать в качестве доказательств на судебном процессе, отвели в одну из многочисленных тесных клетушек, из которых, как из пчелиных сотов, состоял полицейский участок. В европейской части города было бы чище и уютнее. Здесь стены были дощатыми, ложа для задержанных — каменными: плиты были положены на голую землю, и спать без верхней одежды, которую можно было бы постелить вместо матраса, было рискованно. В довершение всех бед его, памятуя об оказанном им сопротивлении, приковали к торчащему из стены кольцу, которое в недавнем прошлом соединялось цепью с кандалами, ныне упраздненными. Наручники были не лучше, а, наверно, хуже ножных оков, поскольку не давали ни лечь, ни повернуться. Но Яков и не думал растягиваться на этом неудобном ложе: он уселся, уперся спиной в теплые доски и приготовился ко сну сидя — ему после гражданской войны в Туркестане, с ее походной жизнью, это ничего не стоило.
«Надо будет придумать что-нибудь с этими проклятыми паспортами, — сказал он себе. — Представляю себе, что говорят сейчас об этом в Управлении или, не дай бог, выше: если наши побоятся скрыть это от начальства. Надо будет подумать…» — и с этим почти вслух произнесенным заклинанием он уселся с поднятой вверх рукой: будто давал какой-то зарок или клятву, отпустил себе четыре часа сна — с тем, чтоб утром найти какой-нибудь хитрый ход, и в следующую минуту заснул: будто происходило это не в шанхайском околотке, а дома, возле дождавшейся его наконец супруги…
На этот раз он спал меньше назначенного срока. Напряженная работа мысли совершалась в нем и во сне и, закончившись, будила звоном своего будильника. Проснувшись, он ясно представил себе линию поведения на допросах. Он, конечно же, не назовет себя и сделает все возможное, чтоб отдалить во времени установление личности: любой, даже поверхностный обыск в квартире на маршала Жоффра найдет (если к этому времени не успеют вывезти или уничтожить компрометирующие его документы) улики не для одного, а для двух и трех смертных приговоров — так много там хранилось в сейфе лишнего. Его товарищи, конечно, позаботятся об этом в первую очередь, но такие вещи на месте не решаются: нужно запрашивать Москву и ждать ответа — эта тревожная нота и разбудила Якова, все остальное терпело отсрочку. Он решил заняться тем, что было в его силах. Надо было отвести удар от консульства. Он объявит, что пришел туда и выкрал эти злополучные паспорта. Особенной хитростью было, по его мнению, то, что таким образом ставилась под сомнение его принадлежность Советам: кому из советских людей придет в голову красть документы у своих и потом объявлять это во всеуслышание? После этого он умолкнет, даст обещание назвать себя, когда придет время, а пока сошлется на процессуальное право молчать и не давать против себя показаний. Что такое право у задержанных есть, он смутно помнил из общей литературы: у него не было юридического образования, но для суда ему было достаточно и этого.
9
Утром он обратил внимание на какой-то особенно пресный, переваренный, обессоленный, безвкусный рис, застревавший комом в горле: обычно Яков был непривередлив в еде и довольствовался малым — здесь же с трудом доел завтрак, запил его тепловатой водой, у которой был затхлый привкус бочки, и, забывая на ходу о неудобоваримой пище, отправился, все еще в наручниках, в суд, где его ждал судья Цинь, ведущий дело. Его ввели в небольшой присутственный зал, где кроме судьи и писца был еще китайский солдат с ружьем; тот, что привел его, тоже остался для наблюдения: арестованный с момента задержания числился драчуном, склонным к побегу. Яков начал говорить на немецком, приучая суд к тому, что это его родной язык, но судья Цинь попросил его говорить по-английски:
— Мы в Китае терпеливые люди, — с насмешливой вежливостью сказал он, — и согласны вести процесс на чужом для нас языке, но мы бы все-таки хотели, чтобы это был какой-нибудь один язык — английский, раз вы все так его любите. Выучить все языки мира мы не можем — вы уж войдите в наше положение…