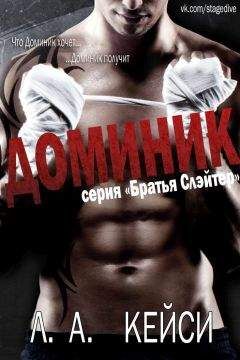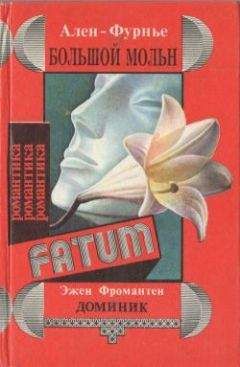Борис Тарасов - Чаадаев
Весьма своеобразно помнил о «телескопской» истории и шеф жандармов Алексей Федорович Орлов, по словам Жихарева, любивший Петра Яковлевича за независимость характера и беседовавший с ним без церемоний официальности, откровенно и доверительно. При их встречах в Москве Орлов спрашивал полушутя Чаадаева, зачем тот связался с римским папой. А друг покойного Михаила Федоровича не мог отказать себе в удовольствии поперечить и «ошеломить» здравствующего и высокопоставленного брата. Однажды, когда арестованный после дрезденского возмущения и выданный австрийским правительством русскому М. А. Бакунин содержался в Петропавловской крепости, начальник III отделения во время одного из приездов двора в древнюю столицу спросил «басманного философа»: «Не знавал ли ты Бакунина?» Чаадаев ответил: «Бакунин жил у нас в доме и мой воспитанник». — «Нечего сказать, хорош у тебя воспитанник, — сказал граф Орлов, — и делу же ты его выучил».
С приведенным рассказом Жихарева констрастирует другой, где он показывает, как Петр Яковлевич чувствовал ситуации, в которых можно или нельзя раздражать сильных мира сего. В 1851 году за границей вышла брошюра Герцена «О развитии революционных идей в России», посвященная М. А. Бакунину. Разочаровавшись в неудачах европейских революций, принесших лишь новые плоды скучного буржуазного педантизма и «безукоризненной пошлости поведения», автор брошюры, по-своему понимая свойственные русскому народу общинные и артельные начала, возлагает особые надежды в деле грядущих общественных преобразований на Россию, которой, по его мнению, свойственны «свежесть молодости и природное тяготение к социалистическим установлениям». Прочерчивая исторические и современные линии, подводящие к таким преобразованиям, Герцен говорит и о Чаадаеве, не соглашаясь, правда, с западно-католическим решением вопроса о будущем России в его первом философическом письме. Значение этого письма он видит в протесте против мешающих прогрессу личности и общества традиций и учреждений, в «лиризме сурового негодования, которое потрясает душу и надолго ее оставляет под тягостным впечатлением». Подобный «лиризм» определяет для Герцена и главное значение творчества Гоголя (хотя в нем же он находит надежду на возрождение), являющегося для него «криком ужаса и стыда», «полным курсом патологической анатомии», «историей болезни» социальной жизни России.
В истолковании автора брошюры и Чаадаев и Гоголь получили видное место в истории русского освободительного движения, что не могло быть не замеченным начальником III отделения, внимательно следившим за деятельностью Герцена. Когда в сентябре 1850 года русский консул в Ницце познакомил Герцена с повелением Николая I о немедленном возвращении на родину, тот отказался его исполнить, о чем и написал А. Ф. Орлову. Последний, получив отказ и препроводив его к царю, высказал свое мнение: «Не прикажете ли поступить с сим дерзким преступником по всей строгости существующих законов?» Согласие было дано, и Петербургский надворный уголовный суд вынес решение признать Герцена «за вечного изгнанника из пределов Российского государства».
О выходе «Развития революционных идей в России» Чаадаев узнал впервые именно от начальника III отделения, оказавшегося в Москве проездом и по обыкновению навестившего его. В разговоре с Петром Яковлевичем Орлов заметил: «В книге из живых никто по имени не назван, кроме тебя… и Гоголя, потому, должно быть, что к вам обоим ничего прибавить и от вас обоих ничего убавить, видно, уж нельзя».
Еще в 1849 году в письме к московским друзьям из Женевы Герцен просил показать Чаадаеву места, где речь идет о нем, и добавлял: «Он скажет: «Да, я его сформировал, мой ставленник». Теми же словами Петр Яковлевич мог, как и в случае с Бакуниным, озадачить еще раз Орлова. Но не стал. Напротив, составил милостивому государю, графу Алексею Федоровичу Орлову следующее послание: «Слышу, что в книге Герцена мне приписываются мнения, которые никогда не были и никогда не будут моими мнениями. Хотя из слов вашего сиятельства и вижу, что в этой наглой клевете не видите особенной важности, однако не могу не опасаться, чтобы она не оставила в уме вашем некоторого впечатления. Глубоко благодарен бы был вашему сиятельству, если бы вам угодно было доставить мне возможность ее опровергнуть и представить вам письменно это опровержение, а может быть, и опровержение всей книги. Для этого, разумеется, нужна мне самая книга, которой не могу иметь иначе, как из рук ваших…»
В июле того же 1851 года Чаадаев передал с оказией письмо к Герцену, в котором сожалел, что «события мира» разлучили их, наверное, навсегда, и благодарил его за известные строки, видимо, за лестные отзывы в упомянутом послании Александра Ивановича к московским друзьям или в испугавшей его брошюре. «Может быть, придется вам скоро сказать еще несколько слов об том же человеке, и вы, конечно, скажете не общие места — а общие мысли, — выражает Петр Яковлевич свою надежду. — Мне, вероятно, недолго остается быть земным свидетелем дел человеческих; но, веруя искренно в мир загробный, уверен, что мне и оттуда можно будет любить вас так же, как теперь люблю, и смотреть на вас с тою же любовью, с которою теперь смотрю. Простите».
Сердечные слова, в которых заметны ноты искренней благодарности и раскаяния, а одновременно и спокойной полемики по существу жизненных вопросов, позволяют высказать предположение, что послание Чаадаева к Герцену могло быть написано после его беседы с А. Ф. Орловым.
Жихарев объясняет составление письма к начальнику III отделения преклонным возрастом, неудовлетворительным состоянием здоровья, стесненным материальным положением, общими нравственными расстройствами родственника. Ко всем этим причинам, усиливающим инстинктивные порывы к самосохранению, следует добавить резкое изменение общественной обстановки в России после европейских революций 1848–1849 годов.
23
Правительство, опасаясь «заразного» духа, предпринимало особые меры по ужесточению контроля над распространением идей и просвещения. Стали ходить слухи о закрытии университетов. Был создан так называемый бутурлинский комитет для постоянного контроля над цензурой и направлением периодических и прочих печатных изданий.
Говоря о создавшейся литературно-общественной обстановке этих лет, Погодин замечал, что цензуре подвергались уже почившие писатели Кантемир, Державин, Карамзин, Крылов, запрещались сочинения Платона, Эсхила, Тацита, исключались из публичного рассмотрения целые исторические периоды. Обсуждение богословских, философских, политических вопросов становилось затруднительным, а упоминание злоупотреблений или проявление каких-либо знаков неудовольствия вменялось в преступление. «Литература ушла, ограничилась только посредственными или гадкими повестями… порядочные люди решились молчать, и на поприще словесности остались одни голодные псы, способные лаять или лизать».