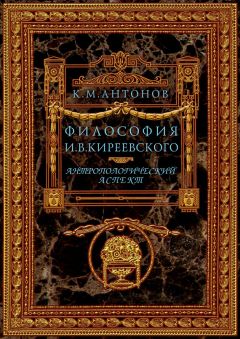Т. Толычова - Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества
От Киреевского пошли русские одиночки… От Герцена пошла русская «общественность»… Пошло шумное, деятельное начало, немного ветреное начало… движущееся туда, сюда, всюду. У Герцена была шарообразная голова, по-русски, и полные мягкие губы. И «общественное начало» у нас говорило и говорило. Говорило сочно, сладко, заслушиваясь себя… с успехом, какой всегда имел и Герцен. Впрочем, оно лет через 50 обмелело бы, даже раньше, если бы в помощь ему и отчасти чтобы сменить его и вытеснить не пришли семинаристы 60-х годов, с закалом суровым, дерзким и… жертвенным. Герцен был так талантлив и счастлив, что жертвы у него никак не получилось бы, между тем только на «жертве» построяется великое в истории. Замечательно, что, когда пришли «семинаристы», по-видимому единомышленные с ним, Герцен затосковал… Он увидел свой конец, свою смерть. Он был в порыве глубоко их отвергнуть, восстать на них, но не решился и — промолчал. Почему? Ведь он был так неизмеримо их талантливее, не говоря уже о просвещенности. «Друг Мадзини… друг Прудона». Тогда как Чернышевский был всего из Саратова, а Добролюбов из нижегородской бурсы. Отчего же он почувствовал себя вдруг слабым? Семинаристы, при всей их грубости и «незнании иностранных языков», сообщили всему движению тонкость и твердость стали, тогда как Герцен был именно мягкое железо. Сталь может рубить железо, а железо — в какой бы массе ни было — не может перерезать самой тонкой пластинки стали. На всем протяжении неизмеримых сочинений Герцена, где столько блеска и роскоши, нет ни одной страницы трогательной и хватающей за душу. Даже нет, в сущности, ни одной интимной страницы. Уж слишком не «священное писание»… Попахивает бульваром, но бульваром в июльские дни, когда Париж шумел, Людовика-Филиппа гнали и Гизо бежал в карете с грязным бельем. Но хоть и в июньские дни, однако именно бульваром… Ничего не поделаешь. Судьба. Та же судьба, с горечью и сладостью в себе, дала Добролюбову много поесть черной каши и кислых щей, прежде чем он вышел в литературу. Да и таланта у него, как у Герцена, не было. У него была та «скромность», о которой спросил Киреевский у Герцена и Герцен тогда ничего не понял. Скромность — и с ней «добродетель», качество немного Корейши. У семинаристов появилось чуть-чуть священного же писания, с его жаром, с его верою, с его «торжественным настроением в душе». И — не «вязло в зубах». Вся Русь поняла и сразу оценила стих Добролюбова — чуть ли не единственный стих, какой он написал, — не из шутливых:
Милый друг, я умираю
Оттого, что был я честен,
Но зато родному краю
Вечно буду я известен.
Милый друг, я умираю,
Но спокоен я душою
И тебя благословляю,
Шествуй тою же стезею.
Это просто нам в самом деле завещание умирающего живым родным людям, перед лицом которых и перед лицом гроба не приходит на ум ни вымысел, ни украшение. Одна простота. Одна правда. Одна суровость. Вот таких восьми строк во всем Герцене нет. На родное по-родному и отозвались. Вся Русь откликнулась на стих Добролюбову, больше — она вся встала перед ним. Когда на людном собрании «Общества в память Герцена», после двух-трех чтений о нем корифеев петербургского либерализма, европейского либерализма, я заговорил и о Добролюбове, — я был остановлен пренебрежительным замечанием:
— Ну, можно ли сравнивать Добролюбова с Герценом… Добролюбов же был совсем не образован. А Герцен — европейский ум. Да и какой талант — разнообразие талантов.
Произнесено было так уверенно, что я замолчал. Да, Добролюбов был беднее Герцена, как и Киреевский. Но в каком-то одном и чрезвычайно важном отношении он был его и неизмеримо даровитее, тоже как Киреевский. Герцен весь рассыпался, разливался, но воды его мелели с каждым днем и каждой саженью движения вперед. Ключ и Киреевского, и Добролюбова бил из глубины земли… Бил, и не истощался, и поил многих и многих… И пившие находили воду его свежей, вкусной и здоровой. В Герцене ни одной ниточки не было от Киреевского, но в Добролюбова вошла крошечным уголком, тоненькой ниточкой душа Киреевского. Это любовь к родной земле, к дальней околице, к деревенской песне. Киреевскому было бы совершенно нечего конфузиться перед Добролюбовым; Добролюбов не мог бы почувствовать никакого негодования к Киреевскому. Хотя все их миросозерцание, все их идеалы — несоизмеримы, далеко, в сущности — враждебны. Но
Капля крови, общая с народом…
Между славянофильством и радикализмом русским есть та же связь, как между часом бури и часом тишины одного и того же дня. Опускаю подробности, которые, впрочем, тоже важны…
Историко-литературный род Киреевских
Много надо прожить, чтобы нажить в душу коротенькую мысль: что талант, блеск, в особенности что искусство писать, колкость и остроумие слога, если под этим великолепием не лежит обыкновенного существа, которое мы именуем просто «хорошим человеком». Мысль эта, гораздо сложнее выраженная, чем здесь, была высказана впервые славянофилами, высказана как зерно цельного взгляда на культуру, цивилизацию, на литературу, нашу и не нашу. Кажется, что это — обыкновенно, просто и «все уже знают». На самом деле это никому не приходит на ум, никому не приходило в голову в пору увлечений Байроном и байронизмом; да и позднее, в пору увлечения Ницше, ницшеанизмом, декадентством и аморализмом. Мысль эта — старая, старого возраста, и создана она литературной школой, которая в самом рождении не была молода. Пора в рассмотрение истории литературы ввести эти категории — «моложавого» и «старого». Право, около категорий эстетических, нравственных и пр., около категорий «служения общественным интересам» и «выражения индивидуальности» своевременно внести это деление литературных произведений по возрастам, задумываясь о каждом: какой возраст в нем бьется пульсом?
Ибо вопрос, так сказать, о метафизическом возрасте писателя открывает его горизонт. Понятие тоже новое и необходимое в истории литературы.
Дерево растет, и с каждым нарастанием древесины оно становится больше, а верхушка его чуть-чуть выше. Не «лучше» и не «красивее», а больше и выше. Так человек и душа его с каждым годом поднимается: она не делается более истинною, более добродеятельною, ей просто открывается с каждым годом новый горизонт, она больше видит, дальше видит, шире видит. Как при подъеме на колокольню: сперва — своя улица, затем — несколько кварталов, весь город и наконец «за городом». С башни святого Марка, в Венеции, видны Адриатическое море и Альпы.