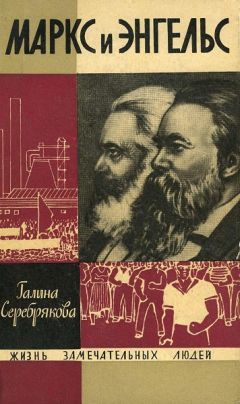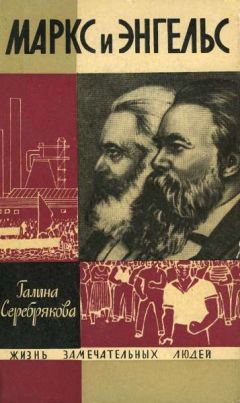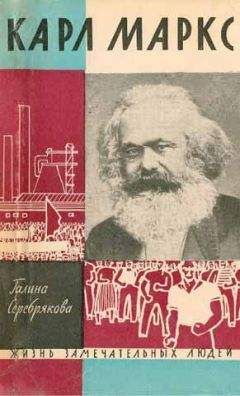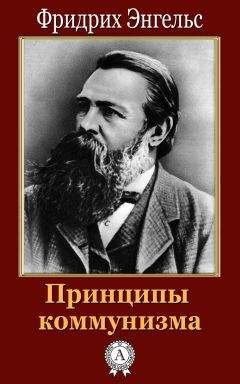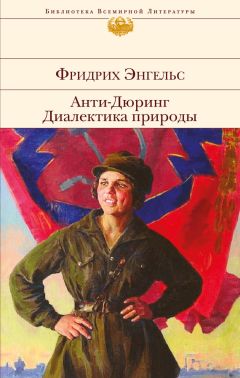Фёдор Шаляпин - «Я был отчаянно провинциален…» (сборник)
То мне снилась «блокада» в форме какой-то нелепой колючей изгороди, через которую я кричу жене: «Как же пробраться к тебе? Не видишь?!» А она мне протягивает красный шелковый зонтик и говорит: «Держись, я тебя перетяну на эту сторону». И я лезу — почему-то босой, хотя я в шубе… То мне снится, что я еду прекрасным сосновым лесом на русской тройке со звучным валдайским колокольчиком под дугой. Сам правлю. И мне очень хорошо: я в Швейцарии. Но меня раздражает и немного пугает колокольчик: какая досада — услышат!.. Я его срываю и прячу в карман, а в кармане сахар… Навстречу мне велосипедист в странной фуражке, какой никогда еще не видал, но он мой поклонник. Узнал меня и говорит: «Вам, Федор Иванович, нельзя на тройке. Возьмите-ка вы лучше мой велосипед и катите по этой тропинке — интересно и безопасно». Я его неуверенно благодарю: «Как же — говорю — лошади?..» «А об этом не беспокойтесь. Я их доставлю в театр». «Ну, спасибо…» Мчусь на велосипеде по тропинке. Солнце, зелень, озеро. Боже, как хорошо! А я уже думал, что никогда больше Швейцарии не увижу! Спасибо велосипедисту. Вероятно, родственник нашей Пелагеи…
А то еще мне снится маленький итальянский город. Площадка и фонтан зеленый от времени, во мху, вроде римского Тритона. Очень знакомый городок. Я же тут бывал! Стоял на этой лестнице без перил. Ну да, в этом доме живет этот портной, мой приятель. Он работал со мною в каком-то театре. Перелли? Кажется, Перелли. Зайду. Вхожу на лестницу. Бьется сердце: сейчас увижу старого приятеля, милого Перелли, которого не видел так давно. Он мне все объяснит. Куда мне ехать, и где можно будет мне петь. Дверь открыта, вхожу в дом — никого. И вдруг с заднего балкона повеяло удушливым запахом хлеба, белым, свежим запахом французского хлеба!.. Я же могу купить!.. Иду к балкону и там вижу: как дрова сложен хлеб, один на другой, один на другой… Беру один, другой, третий. От запаха голова кружится… Но где же Перелли? Надо заплатить. Неловко. И вдруг — мне делается страшно… С хлебами бросаюсь вон из дому и бегу… Трамвай… Это как раз тот, который мне нужен. Он идет на Каменно-островский проспект, к моему дому… Вскакиваю на площадку… просыпаюсь.
Просыпаюсь. Мертвая, глухая тишина. Вглядываюсь через окно в темноту ночи. На проволоках телеграфа густо повис снег…
Блокада!..
17
Не будучи политиком, чуждый всякой конспиративности, не имея на душе никаких грехов против власти, кроме затаенного отвращения к укладу жизни, созданному новым режимом, я как будто не имел оснований бояться каких-нибудь репрессий и особенных, лично против меня направленных, неприятностей. Тем не менее по человечеству, по слабости характера, я стал в последнее время чувствовать какой-то неодолимый страх. Меня пугало отсутствие той сердечности и тех простых человеческих чувств в бытовых отношениях, к которым я привык с юности. Бывало, встречаешься с людьми, поговоришь по душе. У тебя горе — они вздохнут вместе с тобою; горе у них — посочувствуешь им. В том бедламе, в котором я жил, я начал замечать полное отсутствие сердца. Жизнь с каждым днем становилась все официальнее, суше, бездушнее. Даже собственный дом превращался каким-то неведомым образом в «департамент».
Я очень серьезно захворал. От простуды я очень серьезно заболел ишиасом. Я не мог двигаться и слег в постель. Не прошло и недели этого вынужденного отдыха без заработков, как мое материальное положение стало весьма критическим. Пока пел, то помимо пайков я на стороне прирабатывал кое-каких дешевых денег; перестал петь — остались одни только скудные пайки. В доме нет достаточного минимума муки, сахара, масла. Нет и денег, да и немного они стоили. Я отыскал у себя несколько завалявшихся иностранных золотых монет: это были подарки дочерям, привезенные мною из различных стран, где приходилось бывать во время гастрольных поездок. Но Арсений Николаевич, мой старый друг и эконом, особенно наклонив голову на правое плечо и взяв бородку штопором в руки, многозначительно помолчал, а потом сказал:
— Эх, Федор Иванович, на что нужны эти кругляшечки? Была игрушка, да сожрала чушка. Ничего мы не купим на это, а ежели у тебя спинжачок али сапоги есть — дай: достану. И мучки принесу, и сахар будет.
А Марья Валентиновна приходит и говорит:
— Что же мы будем делать? Сегодня совсем нет денег. Не с чем на базар послать.
— Продавайте что есть.
— Больше уже нечего продавать, — заявляет Марья Валентиновна. И намекает, что продать дорогие бриллиантовые серьги не решается, опасно — обвинят в спекуляции: укрыли, дескать, спрятали.
И никто, никто — из друзей, из театра, никто не интересовался и не спрашивал, как Шаляпин? Знали, что болен, и говорили: «Шаляпин болен», — и каменное равнодушие. Ни помощи, ни привета, ни простого человеческого слова. Мне, грешному человеку, начало казаться, что кое-кому, пожалуй, доставит удовольствие, если Шаляпин будет издыхать под забором. И вот эта страшная мысль, пустота и равнодушие испугали меня больше лишений, больше нужды, больше любых репрессий. В эти дни и укоренилась во мне преступная мысль — уйти, уехать. Все равно куда, но уйти. Не ради самого себя, а ради детей. Затаил я решение, а пока надо было жить, как живется.
Была суровая зима, и районному комитету понадобилось выгружать на Неве затонувшие барки для дров. Сами понимаете, какая это работа, особенно при холодах. Районный комитет не придумал ничего умнее, как мобилизовать для этой работы не только мужчин, но и женщин. Получается приказ Марии Валентиновне, ее камеристке и прачке отправляться на Неву таскать дрова.
Наши дамы приказа, естественно, испугались — ни одна из них к такому труду не была приспособлена. Я пошел в районный комитет не то протестовать, не то ходатайствовать. Встретил меня какой-то молодой человек с всклокоченными волосами на голове и с опущенными вниз мокрыми усами и, выслушав меня, нравоучительно заявил, что в социалистическом обществе все обязаны помогать друг другу.
Вижу, имею дело с болваном, и решаюсь льстить. Многозначительно сморщив брови, я ему говорю:
— Товарищ, вы — человек образованный, отлично знаете Маркса, Энгельса, Гегеля и в особенности Дарвина. Вы же должны понимать, что женщина в высшей степени разнится от мужчины. Доставать дрова зимою, стоять в холодной воде — слабым женщинам!
Невежа был польщен, поднял на меня глаза, почмокал и изрек:
— В таком случае я сам завтра приду посмотреть, кто на что способен.
Пришел. Забавно было смотреть на Марью Валентиновну, горничную Пелагею, прачку Анисью, как они на кухне выстраивались перед ним во фронт и как он громко им командовал: