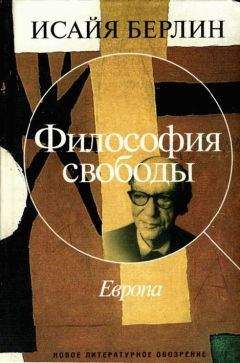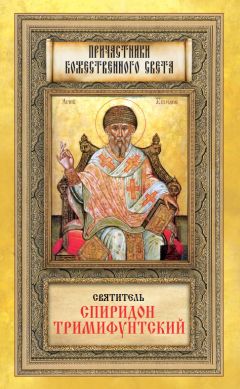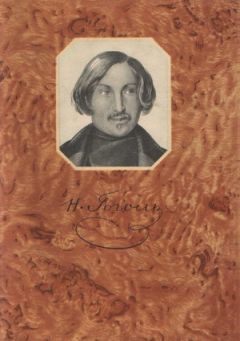Исайя Берлин - История свободы. Россия
Действительно, относительное отсутствие того, что можно было бы назвать мистическим коммунизмом, – самое поразительное в так называемой советской интеллигенции. Без сомнения, много убежденных марксистов в Польше, Югославии, где угодно, но я не верю, что их много в Советском Союзе, где марксизм стал формой принятого, неоcпоримого, бесконечно наскучившего официального краснобайства. Симптоматично, что те писатели и интеллектуалы, которые выразили свой протест на последних заседаниях Союза писателей, добиваются свободы не столько для того, чтобы нападать на господствующую ортодоксию или обсуждать идеологические проблемы, сколько для того, чтобы просто описывать жизнь так, как они ее видят, не обращаясь постоянно к идеологии. У романистов вызывают скуку или даже отвращение застывшие, идеализированные фигуры советских героев и крепостных; им бы очень хотелось писать с большим – пусть все еще наивным – реализмом, большим разнообразием и психологической свободой. Они ностальгически вспоминают золотое время – ленинские 20-е, – но привлекают их не страсти политического мятежа. Писатели, или, во всяком случае, некоторые из них, осуждают бюрократию, лицемерие, ложь, притеснения, торжество зла над добром с точки зрения тех моральных принципов, которым внешне остается верен даже режим. Такие чувства, общие для всего человечества, нельзя счесть крамольными или открыто антимарксистскими. Именно в этой форме, кажется, провозгласили или осудили венгерское восстание. В ней написан и обсуждается глубоко всех взволновавший роман Дудинцева «Не хлебом единым»[402], почти ничего не стоящий как литература, но очень важный как социальный симптом.
Подчиненное население по большей части – не правоверные коммунисты, не бессильные еретики. Многие – вероятно, большинство – недовольны; а недовольные в тоталитарных государствах – ipso facto[403] ниспровергатели. Но в настоящее время они принимают или, во всяком случае, пассивно терпят свое правительство и думают о других вещах. Они гордятся российской экономикой и военными достижениями. Они привлекают как воспитанные в строгости, умеренно романтичные, одаренные богатым воображением, немного ребячливые, глубоко аполитичные, простые, нормальные люди, оказавшиеся членами жестко организованной корпорации, которая тем не менее их защищает.
Что касается правителей, это другое дело. По природе своей жестокие и честолюбивые, они, по-видимому, считают, что коммунистический жаргон и определенный минимум коммунистической доктрины – единственный цемент, который способен скрепить составные части Советского Союза, а слишком большие перемены подвергли бы опасности стабильность системы и сделали бы чрезвычайно ненадежной их собственную позицию. Они сумели перевести свои мысли на более или менее гладкий коммунистический жаргон и успешно используют его в общении друг с другом и с иностранцами. Когда вы их спрашиваете (а по внешнему виду человека, его тону, одежде и другим менее осязаемым вещам всегда ясно, говорите ли вы с членом верхнего слоя иерархии или с тем, кто стремится туда попасть), сперва кажется, что они пускают в ход пропагандистский трюк. Только потом вы понимаете, что они верят в то, о чем говорят, примерно так же, как политик в любой стране верит в свою риторику, отшлифованную и подогнанную под аудиторию, от которой зависят его успех и карьера, и это постепенно она становится способом самовыражения, привычным даже для него самого, не говоря уже про друзей и коллег.
Я не верю, что в Советском Союзе преобладает двойная мораль, что партийные лидеры или бюрократы разговаривают на своем священном жаргоне только с подчиненными, а едва оставшись одни, оставляют притворство и переходят на циничный язык здравого смысла. Нет, их язык, понятия, кругозор – это смесь того и другого. Вероятно, как старая русская бюрократия и определенный тип политиков и властителей повсюду, они относятся к своей официальной доктрине, тем более – к верованиям остального мира скептически, а то и цинично; однако некоторых, очень упрощенных марксистских положений они придерживаются. Я думаю, они искренне верят, что капиталистический мир обречен погибнуть от своих внутренних противоречий; что верный способ оценить силу, направление развития и перспективы общества – в некоторых «материалистических» социально-экономических критериях (определенных Лениным) и что эти критерии играют решающую роль в выработке и формулировке их собственной политико-экономической стратегии. Верят они и в то, что мир неумолимо марширует к коллективизму, что попытки остановить этот процесс или даже затормозить его свидетельствуют о незрелости или слепоте; что их собственная система, если только она достаточно долго продержится под бешеным натиском капитализма, в конце концов восторжествует и что, изменив в ней что-либо просто для того, чтобы сделать жизнь своих подчиненных лучше и счастливее, они обрекли бы на гибель самих себя, а может быть, – кто знает? – этих самых подчиненных. Другими словами, они мыслят в терминах марксистских теорий и категорий, но не с точки зрения изначальных целей или ценностей марксизма – свободы от эксплуатации и принуждения, классового или национального, – ни тем более с точки зрения индивидуальной свободы, высвобождения творческих сил, всеобщего благоденствия и т. п. Для этого они слишком грубы и безразличны к морали. У них нет религиозной веры; но не верят они и в какую-то особую пролетарскую мораль или логику истории.
Отношение к интеллектуалам у них до некоторой степени такое же, как у политических боссов во всем мире. Конечно, во многом оно обусловлено той позицией, которую занимают их лидеры – члены Центрального Комитета Коммунистической партии. Большинство из них помимо подозрений, которые они вообще испытывают ко всякому, кто имеет дело с идеями, как постоянному источнику потенциальной опасности, вообще чувствует себя неуютно с интеллигентами, испытывая к ним так называемую социальную неприязнь – ту самую, из-за которой наши профсоюзные деятели ощущают рядом с «умниками» и собственное превосходство и собственное ничтожество. Выше они тем, что считают себя практиками, глубже постигшими мир в тяжелой школе жизни; ниже – потому, что не умеют мыслить. Группа недоумков, которая вершит судьбами России (одного взгляда на Политбюро, теперь называемое Президиумом, достаточно, чтобы понять, что этим людям привычней митинги или трибуны, но не книжные полки), смотрит на интеллектуалов с тем же тяжелым чувством, как на хорошо одетых, воспитанных дипломатов и журналистов, к которым она проявляет показную, неестественную вежливость, испытывая при этом зависть, презрение, прорывающееся иногда заискивание и огромную подозрительность. В то же время эти люди чувствуют, что у великой нации должны быть крупные ученые, увенчанные лаврами художники и соответствующие звания. Тем, кто достиг высот мастерства, они много платят, но неистребимое чувство собственного ничтожества поддерживает в них раздражение, непреодолимое желание припугнуть, ударить, оскорбить, публично унизить и напомнить про цепь, на которой они держат этих деятелей культуры, едва лишь те выкажут малейший признак независимости или собственного достоинства.