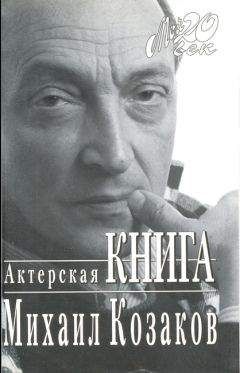Борис Слуцкий - Воспоминания о Николае Глазкове
Через мгновенье в комнате стало шумно — пришел один из давних приятелей Глазкова. Он, как и каждый почти в такой ситуации, стал взбадривать Николая Ивановича.
— …Коля! И это Коля Глазков, бесстрашный путешественник, не боящийся ни жары, ни холода!.. Выше нос, все будет хорошо!..
И т. д. Тон был не очень верный, хотя намерения, конечно, — самые благие.
Глазков лишь слабо улыбнулся, как бы извиняясь за то, что не может поддержать эту игру…
Приятель вскоре ушел, Николай Иванович попросил Росину Моисеевну дать мне пьесу для кукольного театра, которую он написал, а сам отправился в постель…
Я, не отрываясь, прочитал пьесу, поражаясь глубине и вкусу Глазкова!.. Сплав сказки и фантастики, мудрая непритянутость к весьма узнаваемым реалиям, великолепная проза, раек, афористические стихи — и все это с такой естественностью, какая была свойственна только основателю «небывализма» Николаю Глазкову!..
В этой жизни преходящей
Счастье — странный матерьял,
Очень часто состоящий
Из того, что потерял…
Я поздравил Николая Ивановича с пьесой, он слабо кивнул, лежа в постели, — так, словно речь шла уже о вещах второстепенных…
Часа четыре пробыл я у Глазковых в ту последнюю встречу, и когда настало время прощаться, Николай Иванович сказал, повернув на подушке голову:
— Слава, я вам скоро пришлю книгу (речь шла об «Избранных стихах», о которых Николай Иванович раньше написал мне, что это его «лучшая книга»). Всего хорошего вам…
Николай Иванович шевельнулся как-то, как будто хотел еще что-то сказать, но отрешенно замолчал.
Этот его жест остался во мне и время от времени встревоженно всплывает — будто Николай Иванович не успел сказать что-то последнее, важное.
…С тяжелым сердцем я уходил из этого дома. Ко всему примешивалась горечь и от того, что Глазкова мало навещают, что и в таком состоянии он пребывал, как и в литературе, — на окраине, полузабытый будто… А ведь так много людей называли его своим Учителем, так много — числились в друзьях и приятелях…
Жизнь дала испить Николаю Ивановичу до конца чашу горечи и полупризнания, граничащего с непризнанием. (Первая книга «настоящего» Глазкова, «Автопортрет», вышла спустя пять лет после смерти.)
Ему не хватало при жизни внимания, хоть некогда Глазков написал:
Дело не в печатанье, не в литере,
Не умру, так проживу и без;
На творителей и вторителей
Мир разделен весь.
Это — как продолжение хлебниковского: «Пусть Млечный Путь расколется на Млечный Путь изобретателей и Млечный Путь приобретателей».
Мужество Николая Ивановича было поразительно. Будучи прикованным в течение последних полутора лет к костылям, он продолжал постоянную, ежедневную, не будет ошибкой сказать — ежечасную работу.
По приезде, когда я звонил из Магадана, а Николай Иванович почти уже не вставал, Росина Моисеевна подробно рассказывала о его состоянии, о его мужественном сопротивлении болезни.
«Избранные стихи» Николай Иванович прислал, как и предыдущие книги, с теплым автографом. Надпись была датирована 9 сентября 1979 года.
А в начале октября пришла телеграмма от Росины Моисеевны о его кончине. Никогда не забуду острое чувство сиротства в те часы…
Он был поэтом — в том чистом и ныне почти забытом значении, которое нераздельно слито с человеческой сутью, без примеси какой-либо позы, внешнего блеска… Без нелепой тяги — выделиться.
Цельность души и слова, мудрая неспешность самобытности, доброта и глубокая внутренняя культура — таковы отличительные черты Глазкова, и все это отразилось в его стихах, которым суждено жить в нашей литературе.
Он хорошо чувствовал и сознавал назначение своей судьбы, неотделимое от высоких человеческих задач: «Поэты — это не профессия, а нация грядущих лет!» Николай Глазков следовал этому назначению, оставаясь всю жизнь верным голосу сердца.
Время направило энергию его таланта по жестколомающемуся руслу трудной и переменчивой эпохи. Но он остался самим собой, как это ни было трудно.
Николай Дмитриев
«Незразлучны Глазков и апрель…»
Незразлучны Глазков и апрель
В той поездке смешной и хорошей,
И весенний Владимир оплечь
При усмешке своей скоморошьей.
Были родственны город и он,
И на Тракторном, в самом начале,
Я боялся за прочность колонн —
Так глазковские шутки встречали.
А когда не припомнил он строк,
В бороде, меж ладоней зажатой,
Как Хоттабыч, нашел волосок,
Дерг! — и вновь чудеса продолжались.
И, мужицкой ухваткой хорош,
Был он — видел я — чем-то и в чем-то
Не на Воланда ликом похож,
Но на мудрого русского черта.
Был в нем тихий застенчивый свет,
Та печать непритворного детства,
От которой и в семьдесят лет
В седину и в морщины не деться.
Было то, что спасает в беде.
Та святой бескорыстности метка,
Что в писательской пестрой среде,
Как ни странно, встречается редко.
Он не с теми, кто, бледен с лица,
Жил, венец ожидаючи сверху, —
Полюбил он колпак мудреца
С бубенцами веселого смеха.
А зануды, жлобы и дельцы,
Что поэтом его не считали, —
Те таскают свои бубенцы,
Но признаются в этом едва ли.
Снова светится в Клязьме вода,
Снова вечное время струится.
Как на клязьминской круче, тогда,
Мне к живому бы вам обратиться!
Вы любили Сибирь и кино,
И застолья вам были по нраву —
Крепко дружат стихи и вино —
Две похожих российских отравы.
Вы на славу потешили Русь,
Так немало сморозить смогли вы,
Что, припомнив, опять улыбнусь
На неправдашней вашей могиле.
Николай Старшинов
Сужу о друге по вершинам
Литературная судьба Николая Глазкова сложилась непросто.
В поэтической среде его хорошо знали, цитировали, на многих сверстников и на следующее поколение его поэзия оказала большое влияние.
А вот публиковался он чрезвычайно мало. Первая его книга «Моя эстрада» вышла очень поздно, в 1957 году, малым тиражом в Калининском издательстве, когда поэту было уже почти сорок лет. Но необходимо подчеркнуть, что он никогда не брюзжал, не жаловался на то, что его не печатают, что ему трудно.