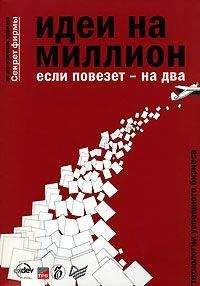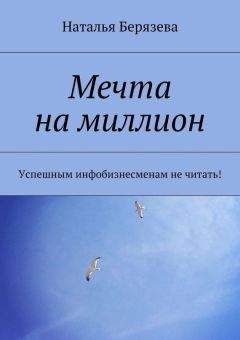Василий Ардаматский - Две дороги
— Здесь, как вы сами заметили, военный суд, — голос Заимова звучал в этой тишине пугающе громко. — Добавлю: это суд еще и политический, и здесь, мне кажется, неуместно заниматься мелодраматическими беседами. Что же касается военного и политического аспекта неосторожно поднятого судом вопроса, то об этом я уже достаточно говорил. Видимо, я ошибся, рассчитывая на то, что судьи поймут меня.
Заимов сел. Капитан Иванов, бессмысленно подняв плечи, повернулся к председателю, который продолжал перелистывать дело.
Заимов чуть откинул голову, на несколько мгновений закрыл глаза и снова открыл. Перед ним неотступно маячило лицо царя на портрете.
Вскоре после присвоения генеральского звания и назначения его на высокий пост в военном министерстве Заимов поехал во дворец вместе с военным министром. Это был чисто формальный визит — царю, как главнокомандующему, министр должен был представить нового начальника артиллерии.
Царь принял их в своем кабинете, огромные размеры которого только подчеркивали его тщедушную фигуру, — издали над массивным столом была видна только его острая голова. Он был, как положено для такого визита, в военной форме, которую никогда не умел носить. Вот и сейчас, встав, он забыл одернуть китель, и погоны задрались вверх, а на груди обвисла складка. Заимов старался не замечать этого, но не мог.
Ритуал представления занял меньше минуты, и в кабинете возникло неловкое молчание. Царь строго посмотрел на министра. Тот встал. За ним Заимов.
— Заимова я прошу остаться, — сказал царь с улыбкой, которая, очевидно, должна была объяснить министру, что с генералом он хочет поговорить неофициально.
— Мы тоже уйдем отсюда, тут сами стены придают словам особый, иногда совсем ненужный смысл, — сказал царь, как только министр вышел.
По прохладному и сумрачному дворцу они прошли на веранду. Густые деревья вплотную подступали к стеклам, и трепещущая от ветра зелень создавала ощущение близости обычной человеческой жизни.
— Мое любимое место, — сказал царь, опускаясь в кресло и показывая Заимову на другое рядом. — Природа прямо магически притягивает меня.
— Вы ее изучали, хорошо знаете, — вежливо отозвался Заимов и, улыбаясь, добавил: — Вот она вас и зовет.
Царь поднял настороженный взгляд, и Заимов подумал, что его слова могли принять за какой-то намек.
Нелегко живется хозяину дворца, если ему за каждым словом может померещиться скрытый смысл. Но, очевидно, кесарю кесарево.
Откинувшись на резную спинку кресла, царь смотрел в парк, как ему казалось, с выражением глубокой сосредоточенности, но его мелкое, тусклое лицо в такие минуты становилось напряженно сморщенным, будто он претерпевал мучительную боль.
— Я часто вспоминаю тот парад в твоем полку, — начал Борис глуховатым голосом. — Сколько уже времени прошло, а у меня перед глазами картина великолепного марша и ты сам на белом коне, уверенный, счастливый... и твои солдаты, на лицах которых я видел не извечный страх, как бы не сбиться с ноги, а упоение маршем. Именно упоение. Признаюсь, я тогда завидовал тебе. Ведь военная служба, может быть, единственное мое предназначение, если бы не судьба стать хозяином этого дворца.
— Как царь вы первый офицер армии... главнокомандующий... — учтиво заметил Заимов.
Борис посмотрел на него укоризненно:
— Но ты же знаешь, сколько всякого стоит между мной и армией. — Он помолчал, ожидая, что скажет Заимов, и продолжал: — К сожалению, между мной и солдатом не только субординационная дистанция, но и множество людей, равнодушных к солдату и ко мне, у которых один бог и одна страсть — карьера.
Царь сказал правду, но Заимов промолчал.
— Ты молчишь, потому что знаешь это не хуже меня, — печально заметил царь, смотря в парк через стеклянную стену веранды.
Заимов молчал, понимая, что царь может истолковать его молчание как согласие. Господи! Как все просто было тогда, в день парада, о котором вспомнил царь. Действительно, полк прошел, точно песню спел. Царь громко крикнул: «Спасибо, Заимов! Ты возрождаешь болгарскую армию! Спасибо!»
В свите стали улыбаться, расступились, царь мелкими шажками приблизился к нему и протянул руку. Им было тогда легко разговаривать друг с другом, он рассказывал о военном деле, и царь охотно, с пониманием слушал, одобрял его мысли о том, что следует сделать для солдата, для того, чтобы он свою службу принимал умом и сердцем.
В какое-то мгновение Заимов вдруг увидел, с какими лицами свита слушает их разговор. И он понял — каждый из них сейчас думает: а не придется ли кому-то из них уступить свое теплое место на самом верху военной иерархии?
— Что это ты вдруг опечалился? — спросил тогда царь.
— Да нет, — смутился он. — Просто парад окончен, и я уже думаю о завтрашних буднях.
— У тебя не должно и не может быть никаких оснований расстраиваться, — строго и озабоченно сказал царь и добавил: — Наоборот...
Потом друзья, узнавшие об этом разговоре, шутили: «Быть тебе военным министром». Но произошло нечто другое — вскоре в полк прибыла комиссия из военного министерства, которая целую неделю старательно собирала факты отрицательного свойства, какие всегда имеются в жизни большой воинской части. Как честный человек Заимов сам рассказал комиссии о многих бедах и нуждах полка, а потом подписал акт комиссии. Ему не пришло в голову обратить внимание на то, что в выводах не сказано ни слова о хорошем, что отметил и видел царь.
Царь Борис положил свою желтую сухую руку на подлокотник кресла, где сидел Заимов, и, наклонясь к нему, сказал:
— То, что с тобой произошло сейчас, я должен был сделать гораздо раньше. Но лучше поздно, чем никогда. Верно?
Вот оно, извечное лицемерие Бориса. Заимов наслышан о нем давно, последние годы испытывал его на себе, но через третьи руки, а теперь он наблюдает его, так сказать, наяву. Он, видите ли, сожалеет, что не одарил его своей милостью раньше. Но Заимов точно знает, что именно он, царь, до самого последнего времени делал все, чтобы сбить его с ног, заставить уйти из армии. Весь вопрос: какую цель преследует он сейчас, сменив гнев на милость? Может быть, прямо спросить у него? Нет, перед ним царь. Можно думать про него что угодно, но существует определенный этикет. Сейчас более уместно сказать положенные случаю слова благодарности, но Заимов молчит, он не может себя заставить, он не произносит ни единого слова, зная, что его молчание снова может быть истолковано неправильно.
Впрочем, пускай он думает, что хочет. Да и не настолько он глуп, чтобы не понимать, что эта их встреча и та, после парада, разделены временем, наполненным событиями, которые в корне изменили все, в том числе и их отношение друг к другу. Теперь между ними, как высокий, непреодолимый для обоих барьер, стоит политика.