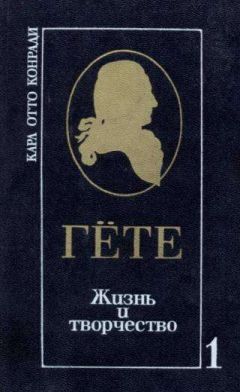Карл Отто Конради - Гёте. Жизнь и творчество. Т. 2. Итог жизни
Рассказывая о встрече с поэтом, Луден пользовался формулировками, которые сам Гёте воспринял бы настороженно, ведь сомнительные последствия некоторых из них всем хорошо известны. Показательно, что поэт подчеркивал в той беседе: перед наукой и искусством, принадлежащими всему миру, рушатся «национальные барьеры». Гёте чувствовал, что патриотическая волна способна выплеснуть на поверхность также и тупой национализм с его враждой ко всему иноземному. Еще и поэтому он столь сдержанно относился к патриотическому энтузиазму периода освободительных войн. Накал ненависти в клейстовской «Битве Германа» никак не согрел бы его душу.
Между тем и он не собирался оставаться в стороне, в роли безучастного наблюдателя, и, как явствует из писем, сознавал важность освобождения страны от чужеземного господства, как и то, «с какой благодарностью нам следует праздновать эту победу» (из письма Фойгту от 11 июля 1815 г.). Гёте имел в виду окончательный разгром Наполеона 18 июня 1815 года в битве при Ватерлоо, после того как, возвратившись с острова Эльба, он в течение ста дней удерживал в своих руках власть. А когда весной 1814 года Ифланд попросил Гёте написать торжественную пьесу по случаю возвращения прусского короля в Берлин, поэт после некоторого размышления согласился. Эта пьеса — «Пробуждение Эпименида» — была поставлена лишь 30 марта 1815 года, в годовщину вступления союзных войск в Париж. Она оказалась перегруженной символикой, с трудом расшифровываемой; сложным образом сплелись в ней мифология и современность. В письме к Ифланду от 15 июня 1814 года Гёте признавался: он хотел воспользоваться возможностью «высказать нации, как переживал и переживает вместе с нею и горе и радость». К тому же он — со всей очевидностью — вложил в уста Эпименида критику собственного поведения:
Но стыдно мне часов покоя.
Зачем я с вами не страдал?
Пред вашей скорбью и тоскою
Теперь ничтожен я и мал.
Правда, жрец тут же оправдывает кающегося Эпименида:
Боги так определили,
Не хули их: ведь они
В тишине тебя хранили,
Чтоб ты зорче видел дни.
(Перевод С. Соловьева — IV, 474)
Сходную мысль Гёте высказывал еще в ноябре 1813 года в одном из своих писем: в то время как многие подающие большие надежды молодые люди были принесены в жертву на полях сражений, те, кто остался трудиться в своей мастерской, обязаны бережно хранить «священный огонь науки и искусства» (из письма к Ф. И. Йону от 27 ноября 1813 г.).
Гёте написал «Пробуждение Эпименида» в тихом городке, неподалеку от Веймара, где с 1812 года был открыт небольшой серный курорт. Кстати, Гёте принимал участие в его создании советами и контролем («Краткий обзор возможного устройства купального заведения в Берке на Ильме», 22 января 1812 г.).
В мае и июне 1814 года он провел в этом уединенном городке полных шесть недель в обществе Кристианы и ее подруги Каролины Ульрих. «Здесь так тихо и мирно, как будто […] за сотню миль отсюда вообще нет военной суеты» (из письма X. Мейеру от 18 мая
1814 г.). Инспектор курорта, он же местный органист Иоганн Генрих Фридрих Шютц, часами играл для Гёте на рояле Баха и Моцарта, впоследствии он нередко наезжал в Веймар, чтобы музицировать в доме на Фрауэнплане. Когда поздней осенью 1818 года Гёте вновь пробыл три недели в Берке, то умелый инспектор, некогда обучавшийся в Эрфурте у Киттеля — ученика Баха, устроил для своего гостя приватный курс музыки, играя ежедневно на рояле по три-четыре часа: «в Берке… инспектор по моей просьбе ежедневно играл мне три-четыре часа в исторической последовательности все произведения от Себастьяна Баха до Бетховена, таким образом исполнив вещи Филиппа Эммануила, Генделя, Моцарта, Гайдна, а также Дюссека и многих других» (из письма Цельтеру от 4 января 1819 г. — XIII, 443).
Ранней весной 1814 года, однако, его полонило нечто совсем далекое и увело прочь от смутной современности. Духовная эмиграция была для Гёте вполне возможна, в согласии с его девизом: «Едва в мире политики вырисовалась серьезная угроза, как я тотчас своевольно уносился мыслями как можно дальше» («Анналы» за 1813 год). Здесь в Берке Гёте прочитал стихотворения персидского поэта Хафиза в переводе Йозефа фон Хаммер-Пургшталля. Это была восточная лирика, где дурманяще сплетались чувственное и духовное начала, где немалую роль играло волшебство многообразных намеков. И если прежде Гёте не удавалось что-либо воспринять из отдельных стихотворений этого поэта, то теперь полное собрание этих стихов попросту заворожило его. Но он еще не знал, к каким удивительным творческим свершениям оно приведет его самого.
Наедине с Хафизом. Путешествие на Рейн
Уже само по себе то, что на седьмом десятке Гёте удалась такая щедрая жатва — цикл лирических стихотворений, впоследствии (1819) собранных в «Западно-восточном диване», — было крупным творческим событием. Ведь эти стихотворения никак не были связаны с его прежним лирическим творчеством — возник совершенно новый поэтический язык. Не кто иной, как Хафиз, персидский поэт XIV века, вновь вдохновил Гёте на собственное творчество: именно лирика Хафиза и своей тематикой, и своим языком предоставила Гёте на данном этапе его жизни необходимый набор выразительных средств, чтобы он мог отлить в стихи собственные мысли и чувства. Лирика Хафиза отличалась точностью в передаче оттенков чувств и тонким переходом к духовности, жизнерадостной прямолинейностью и прозрачностью мысли, поднимающейся до высоких обобщений, мощностью земного начала и субъективным ощущением божественного, — о каких бы событиях или предметах ни шла речь, всюду в стихах присутствовали серьезные, а не то и шутливые размышления поэта. Западные читатели, равно как и поэт, вдохновленный Хафизом на собственное творчество, в этом чужеродном для них мире отдалялись от современности, но при том не тонули в безвременье и беспредметности, поскольку дух, пронизывавший и направлявший эту чужеродную поэзию, порождал и взгляд, и мысли, способные обратиться и на собственный, родной читателю и поэту мир и на собственное бытие, независимо от того, затрагивает ли их происходящее, или же они словно бы сверху созерцают его, «поскольку вообще сей род поэзии, — как отмечал Гёте, — предполагает некую скептическую подвижность ума».
Сам Гёте обстоятельными «Примечаниями» пытался способствовать лучшему пониманию «Дивана» (по-персидски это слово означает «сборник», «собрание», в данном случае — «сборник песен»); в них, как и в некоторых из своих писем, Гёте детально описал сущность поэзии этого рода и разъяснил, насколько она была созвучна его душевному настрою. «Между тем накапливаются новые стихи для «Дивана»», — писал он Цельтеру 11 мая 1820 года. «Эта магометанская религия, мифология, этика открывает простор поэзии, приличествующей моим годам. Безусловная покорность неисповедимой господней воле; беспечальный взгляд на неугомонную земную суету, неизменно повторяющуюся по кругу или по спирали; любовь, взаимное влечение; и все это — словно бы между двумя мирами, где все реальное просветлено, растворено в символике». И еще: «Наивысшая суть поэтического искусства Востока есть то, что мы, немцы, называем духом… Дух же по преимуществу — прерогатива старости или же стареющей мировой эпохи. У всех поэтов Востока находим мы некий общий взгляд на окружающий мир, иронию, свободную игру таланта» («Примечания»).