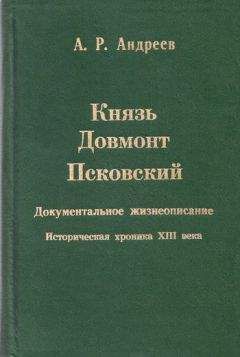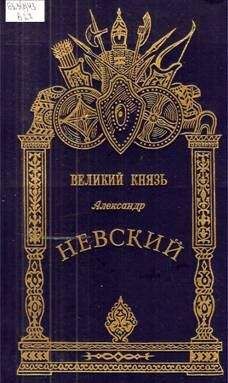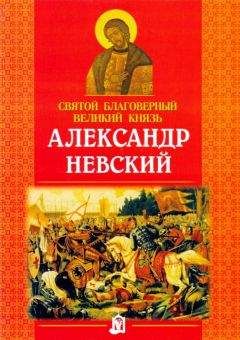Максим Чертанов - Дарвин
Роменс в августе 1881-го просил Дарвина составить или подписать петицию в защиту физиологов, тот сказал, что устал и думать об этом не хочет. Но ему пришлось сделать это в ноябре, когда Антививисекционное общество инициировало уголовное дело против физиолога Д. Ферье, якобы без лицензии проводившего опыты по изучению мозга обезьян. Дарвин всполошился, писал Брайтону, что готов понести судебные расходы. Но Медицинская ассоциация сама наняла адвоката и выиграла дело: опыты проводил не Ферье, а тот, кто проводил, имел лицензию и использовал наркоз. Дарвин продолжал обсуждать эту тему с Брайтоном и последнее письмо ему отправил за несколько недель до смерти, 14 февраля 1882 года: делился впечатлением от статьи «Этика боли» философа Э. Герни, писавшего, что нельзя причинять зло одному существу даже для спасения тысяч (хотя если зло малое, а польза большая, то можно), и повторял мысль Кобб, что ученый не имеет права «любопытствовать», а должен заранее знать, что именно откроет и зачем.
Кобб не могла не знать о существовании ветеринарии, но тогда ее не считали наукой. Сотни тысяч животных умирали от сибирской язвы, чумы, сапа. Единственное лечение — пристрелить и сжечь. В 1882 году Пастер нашел возбудителя краснухи свиней, сделал вакцину, общественность сказала, что это вздор. Он делал вакцины от других болезней — никто не хотел их применять. Ему пришлось устроить жестокую публичную демонстрацию. Он ввел нескольким десяткам овец и коров микробы сибирской язвы: половине сделал прививку, и они выздоровели, другие умерли. С тех пор вакцинирование вошло в практику; к животным оно стало применяться раньше, чем к людям. Из письма Дарвина Холмгрену: «Посмотрите на результаты работ Пастера по модифицированию зародышей самых злокачественных болезней, — результаты, от которых животные получат даже большую помощь, чем человек». Пас-тер не имел медицинского образования, к биологии пришел через химию, помогал виноделам, занимался теоретическим спором о возникновении жизни, потом… Если бы в начале пути ему велели доложить, какие открытия он сделает и какая от них будет польза, он пожал бы плечами: мне интересно… почему это? почему то? Великие открытия рождаются из детских «почему»…
Глава шестнадцатая.
ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА
Чуть не полвека прошло с тех пор, как Дарвин начал первую записную книжку по происхождению видов вопросом: для чего нужно половое размножение? Предположил: чтобы «сочетать признаки родителей и умножать их до бесконечности». В 1866-м написал об этом статью, а теперь — книгу «Действие перекрестного опыления и самоопыления в растительном царстве» («The Effects of Cross and Self Fertilization in the Vegetable Kingdom»). Для размножения растений надо, чтобы пыльца с тычинок («мужчин») переносилась на пестики («женщин»). Есть растения, которые опыляются собственной пыльцой. Но большинство так не умеют: у одних не растут мужские и женские цветки на одном стебле, у других растут рядом, но созревают в разное время, у третьих такое строение, что свой «мужчина» не подходит своей «женщине», а только чужой, у четвертых контакт возможен, но бесплоден; всем им необходимы сводни: ветер, пчелы. Но есть и такие, что умеют опыляться и с собственного цветка, и с чужого (подсолнух, малина, крыжовник). С последними Дарвин ставил опыты и убедился, что при перекрестном опылении их потомство крепче, причем желательно, чтобы родители не состояли в родстве.
Медики интуитивно понимали, что при «слиянии крови» внуков одного деда, если он болен, правнуки «плохую кровь» унаследуют. Но если семья здорова, почему не жениться внутри нее, чтобы сохранить «хорошую кровь»? Так женились королевские особы, рожая больных детей. Растения подсказали Дарвину: как бы ни был здоров предок, потомкам лучше искать супругов на стороне, чтобы соединились «дифференцированные элементы», то есть разные гены. Но если кузены росли в разных условиях, жениться можно. (Для генетики XX века это бред: какая разница, где росли, гены есть гены. Но в свете эпигенетических открытий — кто знает…) Если самоопыление хуже, почему некоторые растения им занимаются? Дарвин считал это вынужденным: жили там, где нет насекомых или ветра, пришлось обходиться своими силами. Но такой способ не значит плохой, раз он их устраивает. И они не «отсталые», напротив, сперва все растения были способны к перекрестному опылению, а потом возникла ветвь самоопыляющихся. (Такое бывает: например, водяные зверьки коловратки оделлоидные когда-то размножались половым способом, а потом перешли к бесполому. Нам кажется, что эволюция идет прямым путем, а она петляет, как заяц…)
Книгу Дарвин завершил 5 мая 1876 года. Весной часто ездил в Лондон, стал почетным членом Физиологического общества, а дома пытался вызывать у растений мутации. Он делал это много лет назад, но бросил, теперь книга заставила его вернуться к опытам. Самоопыляющиеся растения, по идее, должны все время рождать свои точные копии, как существа, размножающиеся бесполым способом, но наделе их дети оказывались разными. Значит, изменчивость возникает и без «дифференцированных элементов», но как?! Он предположил, что дело в почве, с помощью Фрэнсиса начал удобрять цветы чем ни попадя, лишь бы это было, как он писал агротехнику Д. Гилберту, «совместимо с их жизнью и здоровьем». В мае Уильяма сбросила лошадь, в результате — сотрясение мозга, семейство повезло его лечиться на ферму Генсло Веджвуда в Суррее, там прожили до августа, Дарвин правил «Перекрестное опыление», делал новые редакции «Орхидей» и «Вулканических островов» и начал автобиографию «Воспоминания о развитии моего ума и характера»: «Отец умер в здравом уме, и я надеюсь, что умру до того, как ум мой сколько-нибудь заметно ослабеет».
«Воспоминания» предназначались для семейного чтения, издал их Фрэнсис посмертно. Наивный рассказ о детстве, много самоанализа. Дарвину было трудно выражать мысли, и это дало преимущество, так как приходилось над каждым словом думать. Память у него «обширная, но неясная». Он не отличается «ни большой быстротой соображения, ни остроумием». К отвлеченному мышлению непригоден, в общем, заурядный тип, обладающий «долей изобретательности и здравого смысла» не больше, чем «хорошо успевающий юрист или врач». Что сделало его ученым? Усердие, «способность замечать вещи, легко ускользающие от внимания, и подвергать их тщательному наблюдению» и, наконец, главное — стремление «понять и разъяснить все, что бы я ни наблюдал».
До тридцати лет он обожал поэзию, музыку, потом охладел. «Утрата этих вкусов равносильна утрате счастья… Кажется, что мой ум стал машиной, которая перемалывает собрания фактов в общие законы». Почему так, он не знает, но гипотеза есть: мало упражнял часть мозга, которая отвечает за восприятие искусства, надо было раз в неделю читать стихи и слушать музыку. Но в общем жизнь удалась: «Я думаю, что поступал правильно, неуклонно занимаясь наукой… Я не совершил какого-либо серьезного греха и не испытываю поэтому угрызений совести, но я очень часто сожалел о том, что не оказал больше добра моим ближним… Я могу вообразить, что мне доставила бы удовлетворение возможность уделять благотворительным делам все время, а не только часть…»