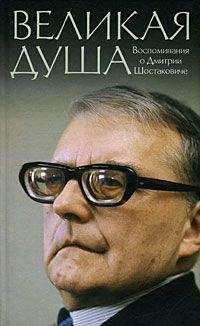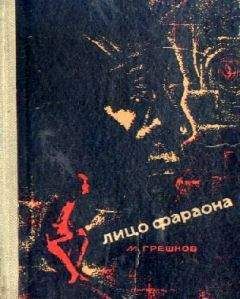Ваан Тотовенц - Жизнь на старой римской дороге
Ваграм внезапно почувствовал ненависть к младшему брату, к тому, кого качал в колыбели и носил на плечах. Взгляды их встретились. Кровь ударила обоим в голову, братья бросились друг на друга.
Несколько раз они падали наземь, снова вскакивали, каждый тянул любимую девушку в свою сторону.
— Ты осквернил мою колыбель — выдавил из себя Рач.
— Верон моя! — зарычал Ваграм.
— Это мы еще посмотрим, — зло ответил Рач.
Они вцепились в девушку: Вероника забилась в их руках, как птица, попавшая в клетку, издала сдавленный хрип и потеряла сознание. Но разъяренные братья продолжали борьбу за девушку — и тут вдруг заметили, что она уже бездыханна. Тогда в бешеной ярости они кинулись друг на друга.
Ваграм изо всех сил сжал горло Рачу.
Рач содрогнулся от боли и сквозь стиснутые челюсти зарычал, как зверь.
Этот крик услышала мать и бросилась в подвал. Она нашла Веронику задушенной и растерзанной, а сыновей своих сцепившихся в яростной схватке.
— Помогите, помогите! Они загрызут друг друга… Убили. Они убили!..
Первым подоспел мой брат.
Страшная весть облетела весь город. А с другого конца улицы уже доносился душераздирающий крик другой матери, протяжный, страшный вопль.
— Доченька моя, кровинка, солнышко мое красное! — Это кричала мать Вероники, мать той девушки, которой уже не было в живых.
Вынесли наверх мертвую Веронику, мать подбежала, обняла неподвижную голову дочери и зарыдала.
Ваграм и Рач смотрели друг на друга налитыми кровью глазами, скрежетали зубами, и, если бы их не сдерживали, они растерзали бы друг друга.
Веронику внесли в дом. Плач матери становился все глуше и наконец затих.
Ваграма и Рача заковали в цепи и увезли в тюрьму.
Народ разошелся по домам. В этот день люди долго еще говорили о преступлении, пока сон не одолел их.
9В городе я лучше всех умел клеить бумажных змеев. Мы делали их большими в поперечнике, длиннохвостыми и разноцветными. Летними вечерами, когда над крышами и улицами проносился ласковый ветерок, когда большое цвета абрикоса солнце еще нежилось в синей постели гор, мы запускали змеев с самых высоких крыш. Поднявшаяся с полей лиловая тьма повисала в воздухе тяжелыми покрывалами, и с нашего неба сыпались звезды, тысячи звезд — больше, чем с любого другого неба. А наши змеи парили в синеве этого неба и казались разноцветными фонарями. Потом синева сгущалась, и мы уже не видели змеев, — были только фонари, яркие, как луны, блуждающие, раскачивающиеся, ищущие и не находящие своих орбит. Каждый вечер над нашим городом плыли десятки таких лун. Некоторые из них сгорали на глазах: взметнется в последний раз широкий язык пламени и исчезнет.
Однажды я, запустив змея, привязал конец шпагата к желобу и довольный прилег на крыше. Змей мой поднялся выше всех змеев, запущенных с других крыш. Вдруг я услышал, что желоб задребезжал. Не успел я вскочить с места, как он сорвался и грохнулся на мостовую. Я посмотрел вниз — не упал ли он кому на голову? К счастью, на улице никого не было. Я ужаснулся, ведь желоб мог угодить в отца, который возвращался домой обычно в эти часы. В глазах у меня потемнело, с трудом я оторвался от края крыши, побежал вниз, обрубил конец шпагата и стал быстро-быстро сматывать его в клубок. Змей, спускаясь, застрял в ветвях шелковицы, росшей в саду напротив. Я дернул за шпагат, он запутался еще больше. Я подумал, не взобраться ли на дерево, но тут в конце улицы послышался рев осла, на котором ехал отец; тогда я дернул за шпагат, оборвал еще раз конец, поднялся в комнату отца и побежал к окну: заметит ли отец желоб? Он заметил и спросил слугу:
— Почему желоб валяется на улице?
Слуга не сразу нашелся что ответить. Держа осла под уздцы, подошел к желобу и увидел конец шпагата. Смекнул, в чем дело, и объяснил.
— А ну, позови его ко мне, — велел отец и поднялся к себе.
Я сразу же понял, что мне следует спрятаться. Спрыгнул с подоконника, забрался в стенную нишу, куда складывали постели, и задернул занавеску.
Слуга долго искал меня.
— Хаджи-эфенди, его нет нигде, — сказал он отцу.
В комнату вошла мать, Отец спросил обо мне.
— На крыше, змея пускает, — ответила мать.
Она еще не знала о случившемся. Отец объяснил, в чем дело. Мать схватилась за голову и воскликнула;
— Вай, чтоб ослепнуть мне!..
От страха я сжался в комок.
Немного погодя мать встревожилась не на шутку:
— Ладно, что было — то было, но куда же девался ребенок?
Собрались братья и сестры. В доме поднялся переполох. Заглянули во все углы, только в комнату отца не вошли. Кто бы мог подумать, что я скрываюсь именно там.
Братьев послали к соседям и родственникам. Вскоре они вернулись:
— И там его нет.
— Поищите в саду, — велел отец.
Братья бросились в сад.
— Нет его.
— Может, темно, не видно? — тревожно спросила мать.
— Луна светит, — ответил старший брат.
Отец налил себе водки (я смотрел сквозь занавеску), но не выпил, рука застыла в воздухе. Видно было, что он расстроен сильно.
— Куда же девался ребенок? — прошептал он.
Голос его дрогнул.
Выскочи я в ту минуту из ниши, отец обнял бы меня; не знаю, почему я не сделал этого.
— Акоп, сынок, оседлай коня, поезжай к дяде, может, он там, — сказала мать. — Если там, не привози, пусть побудет несколько дней.
Минут через пятнадцать я услышал цокот копыт по булыжнику.
В комнате воцарилось молчание. Оно еще больше сковало меня. Лежа неподвижно, я незаметно уснул. Не понял, как это случилось, только шлепнулся вдруг на пол. Когда проснулся, вспомнил все. Попытался убежать, но старшая сестра поймала. Прибежала мать, смеясь и плача, стала целовать меня. Я уткнулся ей в грудь и не заметил, как вошел отец, почувствовал только прикосновение его усов и запах табака. Отец целовал меня и все повторял: «Ах ты паршивец, ах ты паршивец!»
Вскоре я снова услышал стук копыт.
То был брат.
Он крикнул еще с порога:
— Его нет!
Все рассмеялись, а я из-под локтя отца смотрел на старшего брата, глаза которого уже искрились добротой. Подбежал к нему, обнял. Он поднял меня на руки, высокий и сильный.
Но после того случая отец запретил мне пускать змея.
Проходило золотое лето, проходило впустую для меня. Каждый вечер я поднимался на крышу и с тоской глядел на блуждающие «фонари». А золото лета таяло, уходили последние теплые дни, и тоска все сильнее захватывала меня. Как-то под вечер, когда я сидел на; крыше и смотрел на чужих змеев, в час, когда в небе бегут оранжевые струи и сливаются в одно огромное пылающее море, мать поднялась на крышу. Увидев меня, она поняла, что творится со мной, почувствовала, какой черной тоской я охвачен в этот волшебный вечер. Подошла, обняла меня за голову, спросила: