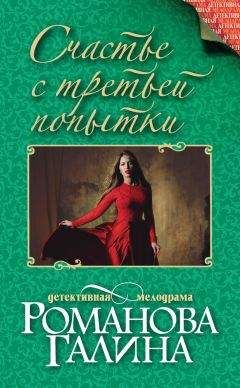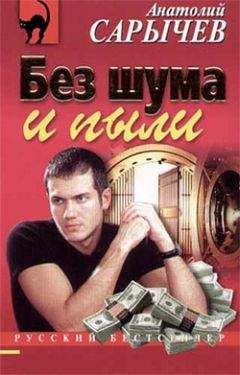Вениамин Каверин - Литератор
«Серапионовы братья и почтенное собрание!
На нашу долю выпала высокая честь первыми в России отметить торжественным заседанием память Э. Т. А. Гофмана. Названием его произведения мы полтора года назад наименовали наше содружество.
Это прежде всего наша обязанность, ибо, несмотря на тысячи линий, вырезывающихся на полотне живой литературы, ведущих нас далеко не к Гофману, — мы, и никто другой, должны, даже не поняв его до конца, передать тем, кто последует за нами. Либо Гофман будет нашим, и тогда мы сумеем с честью показать его кошачий профиль и сумасшедшую жизнь в многих строках, которые будут написаны нами. Либо мы не тронем его, скроем под изжитой национальной традицией, и нетронутым передадим нашим потомкам. Во всяком случае, мы не безразличны к нему, и влияние его, проявлявшееся до сих пор в использовании вторичных черт его творчества, усиливается за последние годы беспрерывно.
В чем назначение Гофмана? В России его окрестили сказочником и, подобно другим великим писателям Запада, назначили служить забавой детям. В этом есть какая-то случайная мудрость. Детям свойственна условность и способность не удивляться тому, что взрослым кажется невероятным. Это характерные черты творчества Гофмана. Его понимали по-разному: искали в нем быт и психологическую глубину — и находили; искали тончайший философский смысл — и находили. А ныне мы, подступая к нему как бы с неким наивным реализмом в сердце, будем искать фантастический реализм его произведений, и мы найдем его, и за ним самого Э. Т. А. Гофмана дирижером в Бамберге, художником в Глогау, театральным деятелем в Варшаве, писателем — везде, мертвецом в Берлине, архивариусом, путешественником, старым евреем, чертом в каждой строке, написанной им.
Мы подступаем к Гофману с мечом в руках. Этим мечом мы отсекаем сентиментальность, психологию, философию и другие вторичные элементы его писательской сущности, а сердцем, полным наивного реализма, воспринимающим мир таким, каким он лежит перед нами, мы разгадываем и открываем его.
Мне было 9 лет, когда я впервые прочел рассказ Гофмана. Это был „Выбор невесты“, и в следующую же ночь полотенце махало на меня белыми руками и рассказывало глуховатым голосом о советнике Густаве и Альбертине Фосвинкель. Когда же под утро я расплакался, напуганный превращением старика Монассе, оно пришло ко мне, мое белое полотенце, и долго успокаивало, мягкими руками проводя по глазам. Потом я уснул и, кажется, до сих пор не проснулся.
Когда мне было 15 лет, я встретил в цирке Перегринуса Тиса. Он был одет в зеленый костюм с блестящими пуговицами, в руке он держал трость, а по рыжему клоку волос, падавших на высокий, квадратный лоб, медленно полз повелитель блох со скипетром в маленьких лапках и бриллиантовой короной на голове.
И в тот же вечер Перегринус Тис рассказал мне конец истории, которая известна всем. Я провел у него всю ночь, а наутро оказалось, что Перегринуса Тиса звали Николай Онуфриевич и он служил некогда в Союзе городов, а потом спился и был изгнан со службы.
А теперь мне 20 лет, и я стою перед вами, Серапионовы братья, и мне кажется, что я — вовсе не я, что это монах Медард, испивший сатанинский эликсир, стоит перед вами, а за его плечами высунул голову чертов двойник. И вы — не вы, а сапожники, бочары, нежнейшие фрейлейн и добродетельные фрау, архивариусы, монахи и черти. Я — не я, вы — не вы, все — не то, как оно есть перед нами, и в этом, быть может, сущность многих, если не всех, произведений Гофмана…
Я отстранил в предыдущем философию, натурализм и психологию, с которыми доселе подступали к Гофману. Не должно винить меня за это.
Возможно ли по психологической или философской мерке вымерять эту увлекательную и необыкновенную мгновенность фантастического восприятия реального, которым столь явственно отмечены лучшие его произведения?
Вот в комнату вошел серый попугай в накидке. Он картавит, рассказывая о чиновнике магистрата или советнике суда. И вот уже нет попугая, а он самый, чиновник и советник суда, продолжает начатое.
Ансельм хватается за ручку двери. Нет. Это вовсе не ручка двери, это рожа, которая корчит страшную гримасу, а изо рта пышет огонь. И все это отмечено чрезвычайным признаком чистого искусства — это — непроизвольно; преднамеренно, но и не случайно. Это свойство своеобразного жанра.
В свое время много писалось о двойственности произведений Гофмана. И точно: некоторая постоянная двухплановость сопровождает его почти повсюду. Раздвоение героя влечет за собой раздвоение миров. Возникающие отсюда перипетии заставляют читать книгу с карандашом в руках для уяснения подлинного смысла повести.
Должно ли непременно искать этот пресловутый смысл художественного произведения, понимая смысл как вникание в некий закулисный строй?
Иногда нет. В „Принцессе Брамбилле“ бесполезно искать „скрытый“ смысл.
Оставим это немцам, умным и глупым, они найдут или уже нашли, напишут или уже написали. А покамест будем читать „Принцессу Брамбиллу“, не ища в ней скрытого смысла.
Своеобразная психология далеко не чужда фантастике Гофмана. Но его психологизм настолько фантастичен, что не имеет ничего общего с психологической прозой.
Если фантастику понимать как способ художественного восприятия, в котором неотделимо слиты несовместимые в обычной жизни элементы, то за вещественной фантастикой, осязаемой и поражающей своей предметной силой, не остается места для фантастики психологической, которая основана на колеблющемся и нечетком материале.
Вообще же у Гофмана характеры, так же, как и грубая бытовая рамка его произведений, условны в высокой степени. Любовь, брак, охлаждение Медарда, отношение к окружающим игрока — нужны исключительно в силу необходимости, обусловленной развитием сюжета. Характеры условны и подвержены изменениям самым неожиданным. Они — некоторый вспомогательный элемент, исчерпанный Гофманом рукой рисовальщика, с чрезвычайной, почти геометрической легкостью. Характеры у Гофмана никогда не контрастируют с внешним обликом героя — рисовальщик не может нарисовать силуэт злодея с добрым лицом, он непременно должен выразить некоторое соответствие наружности и характера. Потому все характеры гофманских героев видны на лицах, на движениях, на книгах Гусмана, в скрипках Креспеля, в каждой морщинке на лице Мейстера Абрагама.
Точно определенный и обусловленный характер непременно ведет к усложнению или разрешению коллизий. Он создает некоторую геометрическую прямолинейность творчества Гофмана, которая так отлично связуется с силуэтностью и оттененностью одного фона — другим.