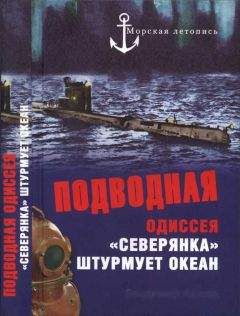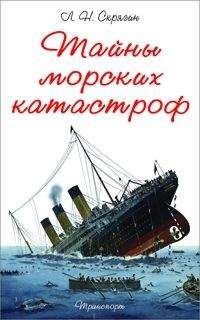Иван Бунин - Том 6. Публицистика. Воспоминания
— Что вы наделали? — проговорил он. — Что вы наделали, Лев Николаевич! Вы лишили жизни живое существо! Как вам не стыдно?
Отец смутился. Всем стало неловко…
Первый, кого я узнал в Полтаве, был некто Клопский, человек довольно известный в то время среди толстовцев и даже попавший в герои нашумевшей тогда повести Каронина «Учитель жизни». Это был высокий, худой человек в длинных сапогах и в блузе, с узким серым ликом и бирюзовыми глазами, хитрый нахал и плут, неутомимый болтун, вечно всех поучавший, наставлявший, любивший ошеломлять неожиданными выходками, дерзостями, словом, всей той манерой вести себя, при помощи которой он довольно сытно и весело шатался из города в город. К толстовцам принадлежал и полтавский доктор Александр Александрович Волкенштейн, по происхождению и по натуре большой барин, кое в чем походивший на Стиву Облонского из «Анны Карениной». И вот, явившись в Полтаву, Клопский первым делом отправляется к Волкенштейну и очень скоро попадает через него в полтавские салоны, куда Волкенштейн проводит его и с «идейной» целью, как проповедника, и просто для забавы, как курьезную фигуру, и где Клопский говорит, например, так:
— Да, да, вижу, как вы живете: лжете да конфетами закусываете, да идолам своим по церквам, которые уже давно пора на воздух взорвать, молебны служите! И когда только вообще кончатся все те нелепости и мерзости, в которых тонет мир? Вот, скажем, ехал я сюда из Харькова. Приходит человек, называемый почему-то кондуктором, и говорит: «Ваш билет». Я его спрашиваю: «А что это значит, какой, собственно, билет?» Отвечает: «Но билет, по которому вы едете?» А я ему опять свое: «Позвольте я не по билету, а по рельсам еду». — «Значит, говорит, у вас билета нет?» — «Конечно, говорю, нету». — «В таком случае мы вас на следующей станции высадим». — «Прекрасно, говорю, это ваше дело, а мое дело ехать». На следующей станции действительно являются: «Пожалуйте выходить». — «Но зачем же, говорю, выходить, мне и тут хорошо». — «Тогда мы вас выведем». — «Выведете? Но я не пойду». — «Тогда вытащим, вынесем». — «Что ж, выносите, это ваше дело». И вот, меня действительно тащат: несут на руках, на диво всей почтенной публике, два рослых бездельника, два мужика, которые с гораздо большей пользой могли бы землю пахать!
Таков был Клопский. Прочие были в другом роде, но тоже хороши. Это были братья Д., севшие на землю под Полтавой, люди необыкновенно скучные, тупые и самомнительные, хотя с виду весьма смиренные, затем некто Леонтьев, щуплый и маленький молодой человек, болезненной и редкой красоты, бывший паж, тоже мучивший себя мужицким трудом и тоже лгавший себе и другим, что он очень счастлив этим, затем громадный еврей, похожий на матерого русского мужика, ставший впоследствии известным под именем журналиста Тенеромо, державшийся всегда с необыкновенной важностью и снисходительностью к простым смертным, нестерпимый ритор, софист, занимавшийся бондарным ремеслом. К нему-то под начало и попал я. Он-то и был мой главный наставник, как в «учении», так и в жизни трудами рук своих: я был у него подмастерьем, учился набивать обручи. Для чего мне нужны были эти обручи? Для того опять-таки, что они как-то соединяли меня с Толстым, давали мне тайную надежду когда-нибудь увидать его, войти в близость с ним. И, к великому моему счастью, надежда эта вскоре совершенно неожиданно оправдалась. Вскоре вся «братия» смотрела на меня уже как на своего, и Волкенштейн — это было в самом конце девяносто третьего года — вдруг пригласил меня ехать с ним сперва к «братьям» в Харьковскую губернию, к мужикам села Хилково, — принадлежавшего известному толстовцу князю Хилкову, — а затем в Москву, к самому Толстому.
Трудное это было путешествие. Ехали мы в третьем классе, с пересадками, все норовя попадать в вагоны наиболее простонародные, ели «безубойное», то есть черт знает что, хотя Волкенштейн иногда и не выдерживал, вдруг бежал к буфету и с страшной жадностью глотал одну за другой две-три рюмки водки, закусывая и обжигаясь пирожками с мясом, а потом пресерьезно говорил мне:
— Я опять дал волю своей похоти и очень страдаю от этого, но все же борюсь с собой и все же знаю, что не пирожки владеют мной, а я ими, я не раб их, хочу — ем, хочу — не ем…
Трудно было ехать потому больше всего, что я сгорал от нетерпения поскорей попасть в Москву, нам же, видите ли, непременно надо было ехать с плохими поездами, а не со скорыми, не с курьерскими, затем пожить с хилковскими «братьями», войти в личное общение с ними и «укрепить» и себя и их этим общением на путях «доброй» жизни. Мы так и сделали — пожили у хилковских мужиков, кажется, дня три или четыре, и я возненавидел за эти дни этих богатых, благочестивых, благих на вид мужиков, ночевки в их избах, их пироги с начинкой из картофеля, их псалмопение, их рассказы про их непрестанную и лютую борьбу «с попами и начальниками» и буквоедские споры о Писании истинно всеми силами души. Наконец, первого января, мы тронулись дальше. Помню, я проснулся в тот день с такой радостью, что совсем забылся и брякнул: «С Новым годом, Александр Александрович!» — за что и получил от Александра Александровича жесточайший нагоняй: что это значит — Новый год, понимаю ли я, какую бессмыслицу повторяю я? Однако не до того мне было тогда. Я слушал и думал: прекрасно, прекрасно, все это сущий вздор, — завтра вечером мы будем в Москве, а послезавтра я увижу Толстого… И так оно и случилось.
Волкенштейн кровно обидел меня: поехал к Толстому сию же минуту после того, как мы добрались до московской гостиницы, а меня с собой не взял: «Нельзя, нельзя, надо предупредить Льва Николаевича, я предупрежу, предупрежу», — и убежал. Вернулся же домой очень поздно и даже ничего не рассказал о своем визите, только поспешно кинул мне: «Я точно живой воды напился!» — причем я совершенно безошибочно определил по запаху от него, что он, после живой воды, пил еще и шамбертен, затем, очевидно, чтобы доказать, что не он раб шамбертена, а шамбертен его раб. Хорошо было только то, что Толстого он все-таки предупредил, хотя я даже и на это мало надеялся: очень милый, но уж очень легкомысленный человек был этот слегка женоподобный, полнеющий, красивый брюнет. На другой день вечером я, вне себя, побежал наконец в Хамовники…
Как рассказать все последующее?
Лунный морозный вечер. Добежал, стою и едва перевожу дыхание. Кругом глушь и тишина, пустой лунный переулок. Передо мной ворота, раскрытая калитка, снежный двор. В глубине, налево, деревянный дом, некоторые окна которого красновато освещены. Еще левее, за домом, — сад, и над ним тихо играющие разноцветными лучами сказочно-прелестные зимние звезды. Да и все вокруг сказочное. Какой особый сад, какой необыкновенный дом, как таинственны и полны значения эти освещенные окна: ведь за ними — Он! И такая тишина, что слышно, как колотится сердце — и от радости, и от страшной мысли: а не лучше ли поглядеть на этот дом и бежать назад? Отчаянно кидаюсь наконец во двор, на крыльцо дома и звоню. Тотчас же отворяют — и я вижу лакея в плохоньком фраке и светлую прихожую, теплую, уютную, с шубками и шубами на вешалке, среди которых резко выделяется старый полушубок. Прямо передо мной крутая лестница, крытая красным сукном. Правее, под нею, запертая дверь, за которой слышны гитары и веселые молодые голоса, удивительно беззаботные к тому, что они раздаются в таком совершенно необыкновенном доме.