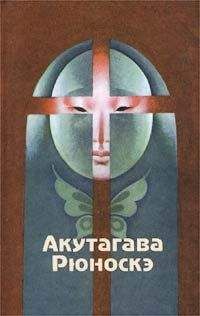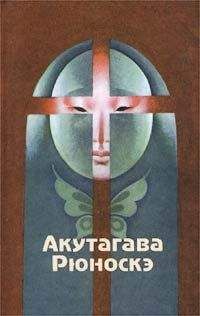Леон Островер - Тадеуш Костюшко
— Даже знаешь, какой дивизией.
— Уже патент выкупил. Но хватит обо мне! Что ты думаешь с собой делать?
— За этим и пришел к тебе. Посоветуй, Вацлав.
— Добейся номинации в полковники и бери полк.
— А кто мне полк даст?
— Купи патент. Всего восемнадцать тысяч злотых.
— Нет у меня таких денег. И половины не наскребу.
Водзиевский наполнил бокалы, сам выпил.
— Плохо, — сказал он, — плохо без денег. А протекцию имеешь?
— На князя нашего надеюсь.
— Плохая надежда. Чарторийский не в фаворе. И, кроме того, он в Пулавах. Нет ли у тебя кого-нибудь из окружения Понинского?
— Этого негодяя! — возмутился Костюшко.
— Эх, Швед, — серьезно промолвил Водзиевский, — ты, видать, не изменился, все еще о Тимолеоне грезишь. Времена Тимолеона прошли. Антони Понинский государством правит. И как бы ты ни относился к нему, его воля для тебя закон.
— А мне кажется, дорогой мой Вацлав, что он недолго усидит в седле.
— На твой век хватит.
— Не хватит. У Штакельберга достаточно дукатов, чтобы купить Понинского, но нет в мире столько золота, чтобы купить весь польский народ.
— Бредни, Швед, пойми меня, бредни. Это у тебя навязчивая идея: народ, народ и опять народ. Народ — это стадо. Куда пастух поведет, туда и пойдет. Мы с тобой сейчас не в корпусе, где при свете луны мир казался нам поэтическим сновидением. Жизнь — штука жестокая, в жизни только две дороги: направо или налево. Хочешь жить — иди к Понинскому или Штакельбергу; не хочешь — поезжай в Сехновицы капусту сажать.
— Опять же, Вацлав, не согласен с тобой. Есть и третий путь.
— Какой?
— Служить родине, ее славе, ее чести, как нас с тобой учили в корпусе.
— Опять Тимолеон! — рассмеялся Водзиевский. — Швед, ведь родина, по крайней мере сегодня, — это и есть понинские, штакельберги, массальские, сулковские — все те, которые теперь управляют Польшей. От них ты зависишь. Одному из них ты должен поклониться, если не собираешься капусту сажать.
— Есть еще один человек, от которого зависит моя судьба. Король.
Водзиевский наполнил свой бокал, выпил и угрюмо промолвил:
— Что ж… Попытайся.
— Устрой мне аудиенцию.
После долгого молчания Водзиевский сказал:
— Хорошо. Устрою. Где ты живешь?
— На почтовой станции.
Костюшко произнес эти слова пренебрежительным томом, подчеркивая этим, что ему на этой почтовой станции неуютно и неудобно. Он был уверен, что сейчас же последует дружеское предложение: «Переезжай ко мне!» Но Водзиевский поднялся и сдержанно сказал:
— Дам тебе знать.
Костюшко понял: он стал неприятен Водзиевскому, Продолжать беседу не имело смысла. А жаль — Костюшко хотел выпытать, что с Людвикой, почему она ему не писала. Но после этой размолвки Водзиевский навряд ли захочет говорить о своей кузине.
— Прощай, Вацлав, жду твоего курьера.
— Прощай, Костюшко, дам тебе знать.
Курьер от Водзиевского явился на третий день, когда Костюшко уже потерял всякую надежду. Пани Ядвига вычистила и проутюжила его обмундирование, накрахмалила кружева, выступающие из-под жилета и рукавов мундира, навела, глянец на сапоги.
Костюшко очутился в знакомом зале с серебристыми обоями, с мелодичными часами на камине.
Король сидел в кресле с перекрещенными ногами, обтянутыми белыми шелковыми чулками. В руке он держал хрустальный флакон.
— Разочаровал меня, — сказал он, разглядывая флакон с таким интересом, точно видел его впервые. — Поехал учиться живописи и сбежал из академии.
— Ваша королевская милость, вместо познаний в живописи я приобрел познания, более полезные для моей отчизны.
Король вскинул голову. Перед ним стоял стройный офицер. Высокий лоб, пепельные волосы мягко падают на плечи, ясные голубые глаза — ничего вызывающего, и в то же время во всей стати этого молодого офицера, начиная от приподнятой головы и кончая чуть выдвинутой вперед правой ногой, чувствуется уверенность, настойчивость и даже что-то враждебное.
— Какие это полезные для отчизны знания приобрел пан Костюшко? — спросил он иронически, желая оскорбительным тоном смутить молодого офицера.
— Знания по военной инженерии, ваша королевская милость. Польша находится сейчас в таком положении, когда ей нужны сильные крепости на своих рубежах, чтобы преградить дорогу охотникам до чужих земель. Польше нужны честные люди, которые построили бы эти крепости и накрепко заперли бы входы в наш дом для непрошеных гостей.
Король вылил себе на ладонь несколько капель из хрустального флакона, натер виски, сделал резкий выпад правой ногой, словно отшвырнул невидимый камень, и сказал шутливым тоном:
— А пану Костюшке кажется, что у нас некому думать об этом?
Носок правого сапога Костюшки еще больше выдвинулся вперед.
— Но не думают, ваша милость, — прозвучал резкий ответ. — Те, кому полагается думать об этом, видно, заняты другими делами, им, видно, некогда думать об охране границ нашего Края.
Король поставил флакон на стол и, тяжело ступая, направился к окну. Не оборачиваясь, тихо сказал:
— Благодарю. Я поговорю с теми, кому полагается думать. Позвони, прошу.
Костюшко подошел к столу, позвонил в колокольчик. Явился флигель-адъютант. Король, все еще спиной к Костюшке, сказал.
— Попроси, пан пулковник, его эминенцию Массальского!
Аудиенция окончена.
Костюшко вышел из Замка недовольный, злой, и не потому что рухнули его надежды, а потому, что он разрешил себе резко говорить со своим королем. Для Костюшки король не был человеком, а символом славы, чести, достоинства Польши. Каким бы ни был Понятовский — плохим или хорошим, неважно: он символ, а к символу неприменимы человеческие нормы законности и справедливости. Нельзя осуждать солнце за то, что оно скрылось за тучи.
Если встреча с Водзиевским не закончилась бы разрывом, Костюшко тут же отправился бы к нему с просьбой выхлопотать вторичную аудиенцию исключительно для того, чтобы принести королю свои искренние извинения за свою невольную, именно невольную, резкость — резкость несвойственна Костюшке, не в его характере.
Остается одно — отправиться в Сехновицы «сажать капусту».
Костюшко приехал в Сехновицы вечером. Все окна небольшого одноэтажного помещичьего дома распахнуты и ярко освещены.
Костюшко расплатился с возницей и вошел в дом. Его никто не встретил. Хотя с Сехновицами не связаны воспоминания ни детства, ни юности — Костюшко родился и вырос в другом месте, — но все же Сехновицы его родовое гнездо, а он, вернувшись издалека, входит в свое «гнездо», словно в корчму. Из столовой несется шум, гам, звон посуды.