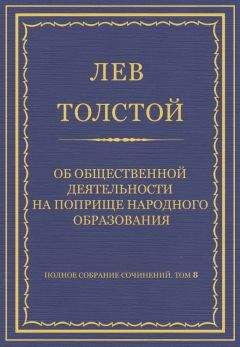Феликс Кузнецов - ПУБЛИЦИСТЫ 1860-х ГОДОВ
О настроениях кружка Введенского достаточно ясно говорят письма участника его А. А. Чумикова Герцену, которые он писал в 1851 году из Парижа. Рассказывая о деле петрашевцев, о пытках, которые применялись к ним в III отделении, он обращался к своему корреспонденту: «Скажите, что Вы думаете об этом заговоре? Мог ли он к чему-нибудь повести? А общество существовало два года, и полиция не знала. Неосторожный Петрашевский набирал прозелитов без всякого разбора и тем погубил дело (не свободы, далеко до нее) либерализма. Мы все (по списку увидите, что либералы есть во всех слоях общества) сильно упали духом. Посоветуйте нам, что делать, как быть, чтобы не идти назад. Ваше слово — для нас закон. Вы наш оракул… Вы авторитет (а нас более, чем Вы полагаете) , и мы — стадо без вождя: руководствуйте нами, пишите более, только не для Европы, а для нас собственно — Европа Вас не поймет, она слепа и глуха теперь! Пишите по-русски. Старайтесь найти средство распространять Ваши сочинения в отечестве, хоть посредством аэростатов (если иначе нельзя провести через границу), ведь в Берлине уже разбрасывают объявления таким средством. Надо немедленно организовать подпольную печать, иначе сон наш надолго продлится».
Целая программа демократической или, как называл ее в ту пору Чумиков, «либеральной» деятельности. Но от чьего имени он выдвигает ее? Кто это — «мы все», даже занесенные Чумиковым в «список», приложенный к письму Герцена (к сожалению, список этот не сохранился)? Как понимать слова: «нас более, чем Вы полагаете», «мы — стадо без вождя»? Может быть, речь идет не о каком-то определенном кружке людей, а о передовых русских людях пятидесятых годов вообще? Это предположение опровергается дальнейшим текстом письма Чумикова, в котором он пишет: «Жалкое состояние Франции (речь идет о положении во Франции после разгрома революции 1848 года. — Ф. К.)! С какой вестью возвращусь я к своим друзьям; они не верят газетам и поручили мне узнать о положении свободы на самом месте ее казни» (курсив мой. — Ф. К.).
Но кто же эти друзья Чумикова, поручившие ему «узнать о положении свободы» во Франции? Петрашевцы? Они были разгромлены. Остается предположение: «друзья» Чумикова, которых немного, по более, чем Герцен мог бы предполагать, — члены кружка Введенского.
Письма Чумикова свидетельствуют, что кружок Введенского, куда он входил, не был таким уж безобидным, узколитературным собранием преподавателей и литераторов, каким его привыкли представлять. Он не являлся, конечно, организованным революционным обществом, но представлял собой тесную, спаянную группу «решительно» настроенных людей. И в числе их не на последнем месте был Благосветлов, пользовавшийся особым расположением и дружбой Введенского. Это очень тревожило Серапиона Благосветлова, который оканчивал курс в Медико-хирургической академии и не благоволил опасному настроению ума своего брата. «Сошелся Григорий с И. И. Введенским, — жаловался Серапион землякам-саратовцам, — он внушает ему разные вредные идеи, которых нахватался за границей. Как бы он не испортил его!» Идейные распри братьев Благосветловых зашли так далеко, что Серапион хотел даже донести на Григория жандармскому офицеру, и Благосветлову-старшему пришлось спешно сжечь много бумаг.
В 1851 году, после окончания университета, Благосветлов по протекции Введенского поступил преподавателем словесности в Пажеский корпус, в 1852 году — в
Михайловское артиллерийское училище, потом — во Второй кадетский корпус и, наконец, в Дворянский полк (впоследствии Констаптиновское училище), где и заместил уже самого Введенского, после того как тот, лишившись зрения, вынужден был уйти в отставку.
По отзывам учеников, Благосветлов был высокоталантливым преподавателем. Но служба в военных учебных заведениях явилась для него тяжелым нравственным испытанием. Очень уж решительным был разрыв между всей прошлой жизнью Благосветлова — нищей, голодной, поистине демократической — и обществом высокопоставленных учеников, в которое он попал. Пажеский корпус — это самое привилегированное учебное заведение Петербурга — соединял характер военной школы и придворного училища, находящегося в ведении императорского двора. В нем воспитывалось всего сто пятьдесят мальчиков, большею частью детей самой высокой знати. Первые шестнадцать учеников выпускного класса назначались камер-пажами к членам императорской фамилии, что, конечно, считалось большой честью.
Благосветлов начал учить пажей не в пору «освобождения» шестидесятых годов, когда волны либерализма захлестнули и эту «святая святых» российского аристократизма, — он пришел в корпус в 1851 году, в разгул «николаевщины», в пору «мрачного семилетия». В корпусе царил полковник Жирардот, француз на русской службе, принадлежавший в прошлом к ордену иезуитов, насаждавший среди слушателей подслушивание и доносы.
С величайшим тщанием готовится Благосветлов к первому занятию с «пажиками» — учениками Пажеского корпуса: до синевы выскребает жесткую щетину на щеках, коротко подстригает свои фельдфебельские рыжие усы и бакенбарды, примеривает новенький, с иголочки, вицмундирный фрак с золочеными пуговицами и бархатным воротником. Все это — и сизые щеки, и короткие «мужицкие» пальцы, и топорщащийся, чересчур новый вицмундир, и даже гордость Благосветлова — элегантный темно-зеленый портфель — стало вскоре предметом злых насмешек востроглазых «пажиков». Топорная щеголеватость нового учителя лишь подчеркивала для них плебейство его происхождения. И хотя непродолжительное время спустя были замечены и оценены его знания, его талант рассказчика, Благосветлов так и остался для большинства пажей «Гришкой Ламповщиком» – обидная кличка, которая прилипла к нему с первых дней преподавания в корпусе.
Вспоминают, что многие пажи не любили его за «семинарские повадки», но еще больше за «неблаговоспитанную раздражительность, которую ему не всегда удавалось сдерживать и которая порождала часто саркастические, довольно топорные, переходившие в грубость выходки». Особенно раздражался он против тех воспитанников, которые отлично знали французский язык, а по-русски, как говорил он, «лапти плели». В таком случае учителю ничего не стоило дрожащим от злости голосом оборвать юного тупицу-аристократа: «Садитесь, господин. У вас в верхнем этаже квартиры отдаются».
Впрочем, вслед за подобной вспышкой у Благосветлова нередко начинались угрызения совести: он вспоминал, что аристократ «тоже человек», а унижать человеческое достоинство ни в ком не позволительно. В тех случаях, когда ему казалось, что он в своем раздражении был не прав, он имел мужество принести извинения. Подобного рода поведение поражало слушателей и расположило в пользу нового учителя немало детских сердец. Надо сказать, что к выполнению своих учительских обязанностей в Пажеском ли корпусе, в артиллерийском ли училище, или в Дворянском полку Благосветлов относился с величайшей серьезностью. Вдобавок он обладал незаурядным талантом преподавателя.