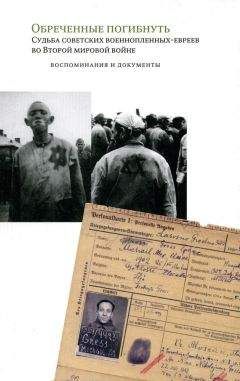Павел Полян - Обреченные погибнуть. Судьба советских военнопленных-евреев во Второй мировой войне: Воспоминания и документы
Но в любом случае важно было как можно лучше ориентироваться в обстоятельствах своей новой идентичности.
Среди этносов, за представителей которых они себя выдавали, чаще всего фигурировали славяне — украинцы и русские (реже белорусы) (см. Приложение I)[70]. На втором месте — тюрки-мусульмане: татары, узбеки[71] и азербайджанцы, а на третьем — армяне, грузины и даже аджарцы. Иногда выдавали себя за французов, за немцев-фольксдойче, совсем редко — за караимов, но последнее почти не помогало (Шнеер II: 172–181).
Командир взвода лейтенант Сергей О., по свидетельству М.Б. Черненко, попал в плен в 1942 г. после неудачного наступления на Южном фронте. Пожилой солдат-татарин указал ему на общность важного мусульманского и иудейского обрядов и присоветовал сказаться татарином из соседнего с собой села. Что Сергей О. и сделал (заодно подучив татарские слова) (Черненко 1997:22).
Военный фельдшер М.И. Меламед попал в плен в сентябре 1941 г. под Киевом и — при помощи коллеги (бывшего начальника Санитарной службы 37-й армии Т.Н. Чурбакова) — сумел выдать себя за аджарца Коджарова[72].
Израиль Моисеевич Бружеставицкий взял себе имя Леонид Петрович Бружа (Brusha), восходящее к его студенческому прозвищу.
А вот Семен Алексеевич Орштейн, по его же образному выражению, «переложился в Семенюка», — взял себе имя и фамилию своего ближайшего друга, бывшего председателя райпо и первого номера расчета станкового пулемета (сам Орштейн был его вторым номером). Настоящий же Семенюк Василий Кузьмич был тяжело ранен за два дня до того, как Орштейн попал в плен.
Большинство советских евреев-военнопленных спасли, впрочем, не столько их удачные псевдонимы и легенды, сколько добрые и совестливые люди — те, кого назовут потом Праведниками Мира. Среди них украинцы и русские, белорусы и поляки, татары и немцы, красноармейцы и гражданские, знакомые и незнакомые, городские и сельские жители. Особенно часты были летом и осенью 1941 г. такие случаи: пожилые и молодые крестьяне и крестьянки прятали у себя евреев-окруженцев или беглых пленных, выдавая их потом за односельчан, а иногда даже «выдирали» их из лагерей, вдруг «узнав» в них своих «мужей», «сыновей» или «братьев». А иногда спасенные и спасительницы, хорошо узнав друг друга, после войны соединялись вновь и создавали семью[73].
Жизнь военнопленного еврея часто зависела от вердикта врача, поэтому неудивительно, что среди их спасителей — так много медиков. Так, М. Шейнман обязан жизнью врачам Редькину и Собстелю в Вяземском лагере, Куропатенкову и Шеклакову — в Кальварии, Цветеву и Куринину — в Ченстохове (Шейнман 1993: 468). Врачам обязаны своей жизнью A.C. Вигдоров, Д.Л. Каутов, A.C. Кубланов и др. Рискуя жизнью, они делали фиктивные операции, укрывали евреев и комиссаров среди туберкулезных, тифозных и поносников, подменяли документы и многое другое. Интересна история Григория Г. Губермана (он же Н. Колокольцев), и самого по профессии врача (сообщена его сестрой, Ж.И. Гольденфельд, Иерусалим)[74]. На время расследования был заключен в тюрьму, где немецкий врач выдал ему спасительную справку о фимозе.
Иногда выручало элементарное землячество: так, москвича Эммануила Николаевича Сосина (он же Михаил Николаевич Зарин) спасло то, что в лагере Ковно, куда он попал, один главный полицай оказался его земляком, москвичом с Мещанской улицы, — он-то и сорвал с него желтую звезду (сзади) и «отправил» в Германию (личное сообщение, 2004).
Немало военнопленных евреев спаслось, сумев убежать к партизанам. Младший лейтенант Борис Ильич Беликов, 39-летний еврей из Ялты, попал в плен под Харьковом, но не со своей частью, а с госпиталем, где лежал. Отчество он изменил на «Иванович», но спасение его было в том, что ни в сборном лагере в Чугуеве, ни в офицерском лагере во Владимире-Волынском, ни в арбайтскоммандо под Кельце он ни разу не встретил знакомых. Два самых страшных его воспоминания: первое — в лагерь поступили новички (не дай бог кто из них знакомый!), второе — медосмотр и помывка в бане (он всегда старался проскочить в гуще людей и как можно скорей намылиться). Однажды ему послышалось, что кто-то обратился к нему не «Боря», а «Борух», и он бежал. Попал к партизанам из Армии Крайовой, а потом к своим (записано с его слов в 1997 г. в Бад-Киссингене, Германия).
Михаил Меламед, военврач 192-й пехотной дивизии, попал в плен в сентябре 1941 г. под Кировоградом. В лагере возле Винницы он объявил себя татарином. После перевода в лагерь в Житомире, а именно в июле 1942 г., бежал, был снова пойман, отправлен в лагерь в Гомель, откуда снова бежал и примкнул к 27-й партизанской бригаде им. Кирова (Krakowski 1992: 228, со ссылкой на: Yad Vashem Archives, 03/4018). К партизанам — из бригады генерала Бегмы — в конечном счете попал и младший лейтенант Александр Абугов, взятый в плен в августе 1941 г. До этого он перебывал во множестве лагерей для военнопленных — Умань, Винница (здесь, по его свидетельству, были расстреляны сотни евреев), Шепетовка, Брест-Литовск, Кобрин и Ковель (откуда он и бежал) (Krakowski 1992: 228, со ссылкой на: Yad Vashem Archives, Testymony Abugov).
На волосок от гибели — как в России, так и в Голландии — прошел плен и студент истфака и ополченец (впоследствии профессор истории Ростовского университета) Герман Бауман (Бауман 1991)[75]. Судьба пленника, проведя Я.С. Кагаловского по 16 лагерям, привела его к концу войны во Францию, а И.Е. Азаркевича — в Норвегию!
Впрочем, была и еще одна необычная траектория судьбы советского военнопленного-еврея — попадание в гетто: своего рода «польский вариант». Александр Иосифович Шпильман из Харькова попал в плен и, будучи обрезанным, был разоблачен как еврей в Каунасском (Ковненском) шталаге. Однако его не убили, а перевели в Минск, причем не в знаменитый Минский шталаг, а в Минское гетто — то самое, куда депортировали и немецких евреев. Оттуда ему удалось бежать, а потом, в порядке продолжения чуда, прибиться к партизанам и даже уцелеть (запись в архиве автора[76]).
Не менее поразителен случай окруженца Александра Владимировича Шламовича, до войны работавшего бухгалтером-ревизором Смоленского торгового управления и сталкиваясь в то время, по делам службы, с адвокатом Б.Г. Меньшагиным. Меньшагина немцы назначили на должность бургомистра (начальника) Смоленска. Пробравшись в Смоленск и придя к Меньшагину на прием, Шламович попросил дать ему документ, указав в нем в графе «национальность» — русский. Далее, по Меньшагину, произошло следующее: «Я сходил в паспортный отдел, порылся в архиве учетных карточек довоенного адресного бюро, вытащил из него несколько, в том числе и карточку Шламовича; потом я эту карточку незаметно положил в карман, а остальные отдал зав. адресным бюро Грибоедовой. После этого я выдал Шламовичу документ, как русскому, а старую карточку уничтожил. Шламовича я больше никогда не видел, но слышал, что он работал у немцев на железной дороге. Во время следствия по моему делу осенью 1945 г. упоминавшийся уже майор Б.А. Беляев спрашивал меня, помнил ли я Шламовича и знал ли я, что он еврей. На мой утвердительный ответ, он спросил, почему же я дал ему удостоверение, что он русский, какие задания я ему давал. Я объяснил, что причина понятна — избежать немецких преследований, заданий же никаких не давал и самого Шламовича больше не видел. Беляев пожимал плечами, удивляясь, что я рисковал собой при обнаружении подделки и, без всяких выгод для себя, дал Шламовичу этот документ. Он так, видимо, и не мог понять того, что добро людям можно делать, не преследуя при этом каких-либо личных выгод, что оно само по себе приносит награду делающему в виде большого нравственного удовлетворения» (Меньшагин, рукопись).