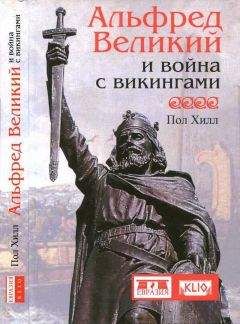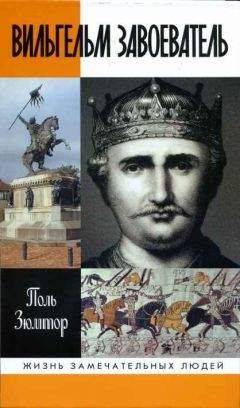Альфред Перле - Мой друг Генри Миллер
Я вспомнил о дурацком названии моего отеля и механически направил стопы в его сторону. Назад я проследовал тем же маршрутом. Все изменилось. Будто я прошелся вверх тормашками или заглянул в телескоп не с того конца. Вместо вони я уловил музыку, если музыкой можно назвать то, что выделывала гармошка. Там, откуда доносились звуки, прислонившись к стене, стоял человек. С ампутированными по запястья руками. Он порывался наиграть вальс. Инструмент ходуном ходил в его культях — словно мешок со змеями. Вальс оборвался пронзительным стоном. Калека бросил гармонь и заковылял прочь.
У меня было такое чувство, будто я бреду во сне. Улица превратилась в стену, а вдоль стены, заложив руки за спину и понурив голову, шел человек. Во всем этом не было бы ничего сверхъестественного, если бы только стена не отливала тошнотворным потусторонним светом. Стена была, наверное, футов восемь-девять высотой. Мне бросилось в глаза, что человек был без пальто, с закутанной толстым шерстяным шарфом шеей. Вдруг я заметил, что он поднял голову, повернулся лицом к стене и замедлил шаг. Так он проследовал вдоль всей стены. Это собственная тень заставила его сбавить темп. Вон она, фантасмагорический гигант, распростершийся на стене парящим орлом. Наверное, он каждую ночь ходит на нее смотреть — дойдет до определенного места, замедлит шаг и затем, повернув голову, прошагает до конца стены. Даже если бы он стал это отрицать, я бы все равно остался при своем мнении. У него был вид человека, преследуемого собственной тенью. Какой-нибудь одержимый — другого объяснения я не нахожу.
Да и вся улица была одержима, а комната, где я жил, располагалась в загробном мире. Название отеля было вроде шутливой надписи на могиле. Дверь — кровожадной пастью на злобном лике. Как я выяснил, в соседнем доме изготовлялись гробы, а фабрика через дорогу производила дезинфекторы, которые потом доставлялись к черному ходу «Фоли-Бержер» и прочих увеселительных заведений.
Вдобавок мне стало известно, что хозяин был родом с Мальты и на нем лежит печать сатаны. Ветер дул большей частью с кладбища, и его порывы были как дыхание египетской чумы. Что-то неповторимое было даже в окрестных жандармах — все они одинаково косолапили при ходьбе. Но когда спускался туман, улица и впрямь обретала свой характер. И даже пульс.
Через день или два после появления материала в печати я получил от Сирила Конноли{67} письмо, где он поздравлял меня с восхитительным очерком и приглашал отобедать в его компании. Я послал ему pneumatique[45], поблагодарив за приглашение, которое я, однако, отклонил на том основании, что работаю по ночам и никогда не просыпаюсь к обеду. Полагаю, он остался недоволен моим отказом и некоторое время не давал о себе вестей. Возможно, он решил, что успех вскружил мне голову. Откуда было ему знать, что все дело в моей чрезмерной щепетильности в отношении незаслуженной похвалы. Не мог же я признаться, что это не я писал, — по крайней мере, на тот момент. Но мне было жаль хорошего обеда. В отличие от большинства моих друзей Сирил не страдал истощением кошелька; взыскательный гурман, он вполне мог позволить себе питаться в самых роскошных «обжираловках» Парижа. А обедать с ним — это было что-то! Даже просто наблюдать, как он совещается с метрдотелем и sommelier[46], было сущим наслаждением. Сирил знал, какие хорошие вещи можно купить за деньги, и, как правило, он их покупал. Меню и карту вин он изучал столь же скрупулезно, как генерал изучает план местности перед началом сражения. Помнится, однажды Конноли пригласил нас с Генри в ресторан «Пьер» на улице Гужон, по соседству с другим знаменитым рестораном — «Друан», где Гонкуровское общество вручало свои ежегодные премии. Это был один из самых незабываемых обедов в моей жизни. Я как сейчас слышу голос метрдотеля, подающего землянику и приговаривающего: «Le citron fait sortir le parfum de la fraise»[47].
Автор «Врагов обета» был, пожалуй, первым из популярных английских критиков, кто распознал в «Улице Лурмель» первозданную мощь Миллера. Моя подпись под очерком наверняка его озадачила. Он знал, что во мне и намека не было на первозданную мощь — для этого я чересчур цивилен. Я всего лишь художник, littérateur[48], Миллер же — ЧЕЛОВЕК! Вот в чем разница. Миллер ни во что не ставит искусство и литературу и жаждет от них избавиться. «С каждой написанной строчкой я уничтожаю в себе „художника“. Каждая строчка — это либо убийство первой степени, либо самоубийство». Такова позиция Миллера — яснее некуда. Я же чересчур культурен, испорчен культурой, чтобы совершать убийство или самоубийство. Я готов быть его учеником, но не могу следовать его примеру. «Ученик неизбежно предает учителя», — сказал где-то Миллер. Вероятно, так оно и бывает. Может, я и сам его предам, может, прямо в этой книге, хотя и написанной с любовью. Но даже если я это сделаю, я знаю — он меня простит.
Для такого знаменитого критика, как Конноли, Миллер — сила слишком необузданная, слишком необъятная, чтобы оказывать ему финансовую поддержку или отстаивать его интересы. Я вполне, и даже с чувством солидарности, могу себе представить, как Конноли презрительно воротит нос при одном упоминании некоторых книг, перечисленных Миллером в его эссе «Книги в моей жизни», в особенности когда тот разливается соловьем в адрес «одного романиста» вроде Райдера Хаггарда{68}. Понятно, что на официальном уровне ему придется откреститься от Миллера, хотя где-то в глубине души он наверняка чувствует колоссальную целостность Миллера и отдает ему должное. Это не значит, что я считаю Конноли неискренним. Напротив, он и искренен, и беспристрастен — два благородных качества, которыми должен обладать каждый критик. Не столько эклектизм и интеллектуальная независимость Конноли, сколько именно его беспристрастность обеспечила беспрецедентный успех возглавляемого им журнала «Горизонт». В Англии Миллер всегда был чуточку табу, и Конноли прекрасно сознавал это, когда опубликовал вызывающее эссе о нем Лоренса Даррелла. Тут потребовалась немалая доля мужества, которым обладает лишь незаурядный редактор.
Из-за вечного безденежья Генри не пренебрегал возможностью время от времени публиковать свои вещи под чужими именами. Как-то он признался мне, что в Нью-Йорке Джун довольно часто ухитрялась пристраивать его статьи и эссе под своим именем — Джун Мэнсфилд. Она успешно сбывала его продукцию — сам он никогда бы на это не сподобился. Ему было в высшей степени наплевать на восторженные отзывы, слава тоже его не прельщала: слава может и подождать, а вот очередной обед — вряд ли!