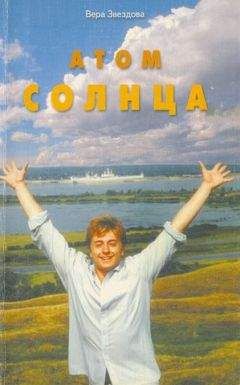Лидия Лебединская - С того берега
«Туманное небо, и на душе туманно. Куда деваться с жизнию? Куда убежать от страдания? Где спокойствие? Где блаженство? Там! в том мире! Но в том мире хорошо настолько, насколько создала его наша фантазия. Отвращение от смерти, желание жить индивидуально заставили людей выстроить себе другой мир и на него возложить всю надежду. А существует ли тот мир — не знаю… Знаю, что ум сомневается, что сердце страдает. Знаю, что от сомнений ума голова горит, как в огне; знаю, что от страданий сердца льются слезы, и все слезы, и вечные слезы. Ребенком я верил в бога и черта; уповал и боялся. Вырос — разуверился в черте, а вместе с чертом, олицетворением идеи зла — исчез и бог, олицетворение идеи добра; остались два абстракта — зло и добро. А я больше человек сердца, чем человек ума. Мне нужен был бог личный. С отчаянием я бросился в мистицизм, но не выдержал. Разум взял свое, мистицизм растаял, как воск на свечке. И вот я остался жертвой разума, страдая горькой истиной, но все же лучше любя страдать истиной, чем блаженствовать с ложью. Ребенком я ненавидел дядьку; вырос — любил свободу, бросился в развитие гражданственности — и видел угнетение и не мог помочь людям. Ребенком я любил мою мертвую мать; вырос — любил тебя; мне надо было любить женщину. Но мать моя мертвая. А где любовь наша? Судьба не отдает матери, а ты не отдаешь любви. Боже! как горько жить на свете. Дружба! Да кто ж из нас не страдает равно всеми вопросами? Где утешение? Маша! где утешение? где вера? где любовь? Я плачу — ты это чувствуешь».
А в России его ждут и верят. Не говоря уже о Герцене, для которого Огарев издавна — неотрывная часть души. Историк Грановский пишет общему их другу: «Знаю только одно: в тяжелые и радостные минуты моей жизни образ Огарева — мой постоянный спутник».
Один из членов их кружка Огареву:
«Никто из нас так не любим, как ты, ни в кого так безотчетно не верят, как в тебя, несмотря на твои усилия поколебать эту веру».
А пришло между тем время, и он еще более всех огорошил, уже окончательно было собравшись вернуться. В августе сорок четвертого Мария Львовна сообщила ему, что ожидает от художника Воробьева ребенка и хочет приехать к Огареву в Берлин, ибо замужем она формально за ним и ему единственному в своем тяжелом состоянии доверяет. Огарев ответил безоговорочным согласием принять не только ее, но и ребенка считать своим. Уже после ее приезда, после возмущенных, недоуменных, оскорбительных и негодующих откликов из России, он писал Герцену:
«Я знаю, что я прав, хотя бы тысяча голосов поднялась против меня. Я прав по убеждению и по чувству. Надеюсь, что ты в этом случае симпатически дашь мне руку… А если нет, то это будет для меня тяжело, оскорбительно, но не переменит моей точки зрения на мои поступки».
И два дня спустя, взяв со стола неотправленное это письмо, лаконично в него вписал, проставив новую дату:
«Приписываю несколько строк. Вчера жена родила мертвого мальчика. У него не было ни глаз, ни мозга. Лицо такое жалкое и печальное, что я не могу забыть его. Больше приписывать ничего и не хочется».
Здесь не место каким-либо комментариям, отчего перенестись нам лучше сразу же на месяц позже. Надо только непременно добавить, что даже один из близких друзей Огарева еще по университету (а впоследствии — родственник, свояк), спутник в нескольких вояжах — Николай Сатин, — достаточно хорошо его знавший, отдавая должное душевным качествам, явленным Огаревым, все-таки пожимал плечами. Это было выше среднечеловеческого разумения. И в письме на родину Сатин сообщал свое мнение об Огареве: «В самом этом унижении, перенесенном им добровольно для восстановления женщины, он явил силу огромную, но только некстати употребленную».
Мария Львовна очень быстро оправилась от слабости и переживаний — может быть, оттого, что давно так много не плакала и давно уже ее не утешали без раздражения. А оправившись, похудевшая и бледная, послонялась около месяца по комнатам и сказала, отводя глаза, что в Италии ей скорее станет лучше.
Наступил разрыв уже окончательный — обоим было ясно, и потому прощание вышло оживленным, с уговором скоро повидаться, без единого упрека или объяснения.
Огарев по-прежнему аккуратнейшим образом высылал ей деньги, изредка писал, отвечая на короткие весточки-напоминания о том, что деньги задерживаются. Письма эти читать, признаться, несколько жутковато, потому что есть же, есть предел долготерпению, сочувствию, доброте, а когда понимаешь, что существуют люди, далеко этот предел оставившие, ощущаешь смутное недовольство, будто оно в укор лично тебе — это непостижимое доброжелательство без границ, душевная неисчерпаемая щедрость.
Письмо четыре года спустя после окончательного разрыва:
«Я читал очень внимательно твое письмо и нашел там всю тебя, то есть доброе сердце и фантастические идеи. Я желая бы, чтоб страдания, которые ты испытала в жизни, были уравновешены ощущениями счастья, — вещь, которой для себя и не ищу и не жду… Верь мне, милый друг, что во всех наших отношениях я буду справедлив, честен и предан, ибо я думаю, что ни ты, ни я — мы не можем поступать иначе. Прощай».
Тут он ошибался круто, ибо Мария Львовна, как выяснилось очень скоро, вполне, оказывается, могла «поступать иначе». Два предательства одно за другим совершит она вскоре в отношении своего бывшего мужа. И тем, кто любит в конце историй мораль, ничего не останется делать, как только развести руками, вспоминая пошловатую древнюю констатацию, что ни одно на свете доброе дело никогда не остается безнаказанным. А пока он пишет стихи:
Закрыта книга — наша повесть
прочлась до крайнего листа;
по не смутят укором совесть
тебе отнюдь мои уста.
Конец того года, когда окончательно и навсегда они разошлись и Огарев с облегчением почувствовал, что от многих своих моральных обязательств он теперь отчасти свободен, конец года того он помнил впоследствии смутно и неуверенно. Как, впрочем, и начало следующего. С кем-то встречался нехотя и случайно, кому-то жаловался, а кого-то сам выслушивал. Время остановило для него свое течение, а когда он пришел в себя — весна стояла на дворе. Кинулся он было, наверстывая канувшие куда-то месяцы, снова учиться понемногу всему, но скоро снова сорвался. И, друзьям все сообщая честно, в марте писал в Россию письмо уже довольно бодрое:
«Я немного сбился, то есть перешел из науки в жизнь и увлекся без меры… глупо, но хорошо».
А однажды вдруг случился очень пьяный суматошный вечер в грязноватом и душном гостиничном номере с приехавшими соотечественниками, и Огарев зачем-то вышел в коридор с одним из новых знакомых, с которым дружественно переглядывался через стол. Под развесистой полумертвой пальмой, прямо над кадкой устроен был низкий столик, даже здесь аккуратно покрытый плюшевой скатертью. Поставили они на него свои кружки с пивом, и неожиданно для самого себя Огарев рассказал случайному встречному всю историю незадачливой своей женитьбы. Очень уж пристально и внимательно слушал этот человек его же лет — немного за тридцать — с асимметричным, бледным лицом, на котором большие зеленоватые глаза и высоченный выпуклый лоб были очень хороши, а лицо бледное, небольшое, будто сморщившееся, хотя гладкое, просто небольшое по сравнению с глазами, лбом и шапкой непослушных волос. Отставной поручик Хворостин, приехавший, как он сам сказал, покутить и поразмяться, слушал Огарева с час, если не более, не перебивая и не отводя прямого взгляда. Наконец отхлебнул жадно пива и в совершенно неожиданном повороте вопрос Огареву задал: