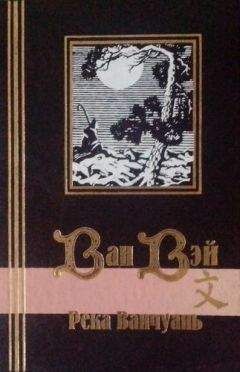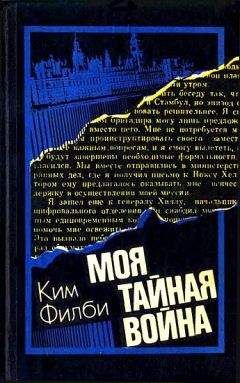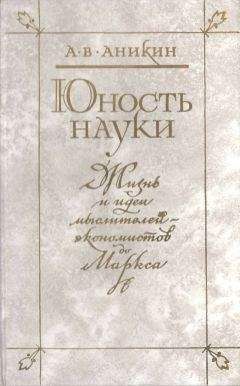Теодор Шумовский - Воспоминания арабиста
— К Фрейману вы, пожалуй, успеете походить в будущем году, когда лучше подготовитесь у Хетагурова, и, кстати, расписание может быть более удобным. Я думаю, что вам стоило бы пока, как говорится, начитывать литературу, которая ввела бы вас в персидскую жизнь, познакомила бы с ее реалиями, тогда и сложные тексты, которые вы хотите читать на уроках Фреймана, будут вам более понятны.
И я взял в библиотеке, где еще продолжал работать, «Сафар-наме» — «Книгу путешествия» Насира Хосрова, написанную в одиннадцатом веке, а в двадцатом переведенную на русский язык крупным нашим иранистом Е. Э. Бертельсом. Простой, безыскусственный язык, как редок он в востоковедных изданиях… С первых страниц раскрывая одну картину за другой — ранние вспыхивали и не гасли, а неспешно и необратимо, как поток, переливались в следующие, — живая, образная речь незаметно ввела меня в толщу события, каким было для среднеазиатского автора это путешествие к Юго-Восточному Средиземноморью, и так же неслышно, уже упоенного, вывела к благополучному исходу, к последним шагам осла, доставляющего усталого странника в родной город. Неторопливое повествование давнего путешественника о городской жизни средневекового Востока звучало как откровение. Я нашел в нем немало интересных для себя деталей, а в целом текст Насира Хосрова очень пригодился не только для того, чтобы представление о Персии стало во мне менее смутным: пришлось вспомнить о нем и много лет спустя, когда, работая над книгой об арабском мореплавании, я смог воспроизвести на ее страницах живые впечатления землепроходца одиннадцатого века о современных ему египетском флоте и сирийских гаванях.
Но что это?
Рассматривая приложенные к переводу «Сафар-наме» воспроизведения средневековых арабских карт и читая пояснения к ним, данные переводчиком, я обнаружил разительное несоответствие: целый ряд географических объектов был отождествлен неправильно. Работа над статьей об арабской картографии «наточила» мой глаз, я уже довольно свободно разбирался в геометрических чертежах, изображавших ту или иную область мусульманского мира так, как представляли ее себе арабские авторы. Ошибки в пояснениях бросились мне в глаза сразу — и все же не хотелось этому верить. Неужели, скрупулезно готовя к печати книгу, можно было допустить такое нагромождение вопиющих неточностей? Или я сам ошибаюсь, чего-то не понимаю, недопонимаю… Снова и снова сличал я карты и пояснения, пояснения и карты… Увы, сомнения быть не могло: ошибся не я, а профессор Бертельс.
Игнатий Юлианович, выслушав мой рассказ о неправильной идентификации, против ожидания, отнесся к нему холодно.
— Не понимаю, зачем нужно стрелять из пушек по воробьям…
— Но, Игнатий Юлианович, — возразил я, — ведь налицо дезинформация читателя. Будь издание «Сафар-наме» рассчитано на одних востоковедов, это еще куда ни шло, но ведь книга-то выпущена большим тиражом, для широкого круга читающих. Как же можно оставлять промах незамеченным? Мне бы хотелось подготовить исправления — и, логически рассуждая, они должны быть изданы в том же количестве экземпляров, что и перевод Евгения Эдуардовича.
— Но ведь это мелочь! — жестко сказал Крачковский, и глаза его потемнели. — Мелочь, недостойная внимания серьезного человека. Неужто вам больше нечем заниматься? Вы меня удивляете. Ну, что с того, что в пояснении к этой паре карт не все сказано так, как надо? Ценность книжки Бертельса отнюдь не измеряется этими злосчастными пояснениями. Себе я объясняю происшедшее просто: издательство торопило, нужно было уложиться в какие-то короткие сроки, вот Евгений Эдуардович и недоглядел, помимо своей воли, конечно. Не будь этой вечной издательской спешки, от которой мы все страдаем, востоковед столь высокой марки сделал бы все, как надо. Или вы позволяете себе в этом сомневаться?
— Как можно, Игнатий Юлианович, — тихо ответил я. — Но ведь ошибка есть ошибка. Почему же должен страдать читатель?
Крачковский отчужденно посмотрел на меня.
— Ваше упрямство не всегда идет вам на пользу. Можете оставаться при своем мнении и поступайте, как хотите.
Я и «поступил, как хотел»: написал статью «К вопросу об идентификации двух мусульманских карт в русском переводе „Сафар намэ“ Насира-и Хусрау». В горле стояли спазмы: я тяжело переживал размолвку с Игнатием Юлиановичем. «Почему он так болезненно отнесся к вскрытию этих ошибок? — бежали горькие мысли. — Может быть, ему просто по-человечески неприятно, что безвестный студент поправляет маститого ученого, человека его поколения, почти ровесника?»… Крачковский и слышать не хотел о моем новом опусе. Но полтора года спустя он рекомендовал его в печать, и по его письменному отзыву статья увидела свет через четверть века, когда ни переводчика «Сафар-наме», ни ревнителя его ученой славы уже не было в мире живых.
* * *Однажды Хетагуров сказал мне:
— Скоро вам станет недоставать времени на персидские штудии.
— Почему, Лев Александрович?
— Разве вы не слышали? Будете в дополнение ко всему заниматься современным арабским, имеется в виду разговорный язык. Если я хорошо запомнил, в деканате шла речь о сирийском диалекте.
— Да? Наконец-то!
— Я было хотел сейчас посочувствовать: если не ошибаюсь, у вас и без того изрядная академическая загрузка. Но, судя по радостному восклицанию, вы сами хотели этого?
— Как же, Лев Александрович! Ведь, занимаясь средневековой культурой, надо знать и то, что было потом? Игнатий Юлианович в конце своего курса арабской литературы говорил нам о новейших авторах — египетских, сирийских, иракских; с Николаем Владимировичем Юшмановым еще год назад мы проходили хрестоматию Семенова по арабскому языку нашего века. Но захотелось иметь и навыки живой речи — ведь, наверное, придется встречаться с арабами… Давно мы просили наше кафедральное начальство — Александра Павловича Рифтина — добиться у деканата включения в программу курса арабского разговора. И вот… Все это здорово, очень здорово! А за свой предмет, Лев Александрович, не беспокойтесь, персидский у нас останется на прежнем месте, все будет «бисйар хуб»…[17]
— Ишь ты, уже и «бисйар хуб»! — засмеялся Хетагуров. — Ну, посмотрим, посмотрим..
Спустя несколько дней в нашей аудитории появилась темнолицая женщина с проседью в черных густых волосах и с живыми внимательными глазами. Ее звали Клавдия Викторовна Оде-Васильева, но нам было известно, что в прошлом это — Кульсум бинт Наср Оде, учительница в палестинском городе Назарет; выйдя за русского фельдшера Васильева, она в канун первой мировой войны приехала в Россию погостить у новых родственников и осталась тут навсегда. Клавдия Викторовна преподавала в Ленинградском восточном институте ЦИК СССР, существовавшем тогда, в тридцатые годы, возле Исаакиевской площади, в Максимилиановском переулке, 2, и по-матерински любила всех русских «мальчиков и девочек», изучавших ее родной язык. Она деятельно участвовала в работе Ленинградской ассоциации арабистов, где была членом правления; ее яркие, основанные на живых впечатлениях доклады о современной литературе арабских стран привлекали широкое внимание. Оде-Васильева преклонялась перед эрудицией Крачковского и высоко ценила его уважительное, бережное отношение к ней, представительнице того народа, изучению культуры которого он посвятил свою жизнь. Она любила повторять отзыв своих далеких соотечественников: «русский профессор Крачковский знает нашу культуру лучше, нежели мы, арабы, знаем ее сами».