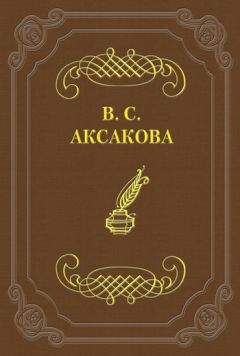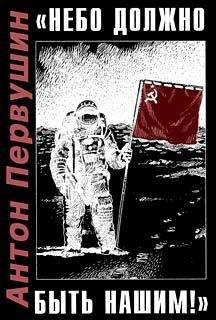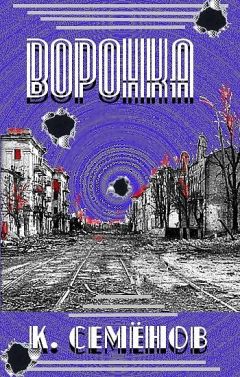Петр Бартенев - Воспоминания
Теперь о Леонтьеве, маленьком, сухопаром, горбатом, с длинными руками и мелочным до крайности. В его автобиографии (в словаре профессоров Московского университета) сказано, что матушка его дала на промышленную в Туле выставку пару перчаток, которую она связала из выпряденной ею паутины. Как мне это впоследствии припомнилось, когда племянник мой Барсуков, которого я ему назвал для получения места эконома в лицее (тогда помещавшемуся еще на Б. Дмитровке), отвечал мне на мой вопрос, отчего он не взял этого места, так желая получить его, следующее: «Я спросил Павла Михайловича: по какой причине он хочет сменить эконома? – Да он не хочет быть при вывозе нечистот и при взвешивании оных. Как так? – Да я взвесил жидкое и густое за одни сутки и потом помножил число веса на число обитателей дома и число дней. – Ну после этого, как же принимать должность?»
И однако лекции Леонтьева до тех пор, покуда он не занялся Московскими Ведомостями, были образцовые; он не писал, а говорил их так отчетливо, что, например, география Италии оставалась у студента как бы нарисованной. Когда он объяснял авторов, то говорил по-латыни, и смешно было слушать сравнение с Пушкиным и Грибоедовым: sicus apud postrarses Puschcinium et Griboedovium[46].
Был и еще профессор, читавший нам уже исключительно по-латыни – это Клин, lusatus saxo[47], как называл он себя. Он читал по найму и потому не пропускал лекций; но студенты не ходили к нему охотно, и потому он, бывало, загонит к себе трех и со словами: tres faciund collegium[48] запрет двери в аудиторию. Лекции его были до того скучны, что однажды Николай Свербеев, пришедши в университет с гарусом, который он купил для сестры, размотал его на руках товарища во время лекции. Позднее я снимал комнату у Клина; это было вполне почтенное семейство. Состоял он под покровительством Леонтьева, про которого надо еще рассказать. Он питал необыкновенную любовь к Каткову; мало того: ревновал к нему даже и членов его семьи. Когда С. Н. Гончаров вызвал Каткова на поединок, Леонтьев ранним утром отправился в Петровский парк, имея секундантом Шебальскаго и, не умея стрелять, конечно не попал в противника (у которого секундантом был его племянник А. А. Пушкин). Выстрел Гончарова также полетел в сторону, и когда Леонтьев возвратился на Страстной бульвар к Каткову, тот изумился, узнав, что все кончено и стал бранить Леонтьева, который сказал ему, что «я одинок, а у тебя целая семья». Эта семья ненавидела Леонтьева, который распоряжался всеми деньгами «Московских Ведомостей» и «Русского Вестника». Брат Каткова Мефодий Никифорович, у которого Леонтьев тоже урезывал назначенные ему братом деньги, до того озлился, что однажды в лицее выстрелил ему в спину из пистолета. Раны не последовало, так как пуля осталась в ватной накладке у горба. Его, конечно, схватили, но он успел другою пулею ранить лицейского сторожа, который и до сих пор получает от Каткова пенсию. Мефодия отвели в Тверскую часть, где он и оставался с сентября 1874 года по 12 января 1875 года. В этот день университетского праздника убежавший из Тверской части Мефодий явился в университетскую залу с пистолетом; его опять схватили и посадили в тюремный замок у Бутырской заставы, где некогда мать его, Варвара Акимовна, была кастеляншею. Там несчастный Мефодий и повесился на полотенце.
Преподавателя Греческого языка Арсения Ивановича Меньшикова мы не охотно слушали по его полной бездарности; с его лекций я уходил слушать физику и глядеть на опыты физические Спасскаго, а всего чаще к профессору зоологии Карлу Францовичу Рулье, который, бывало, вместо часа читает часа полтора, и слушатели не роняли ни одного его слова, так увлекательно говорил он о мышах, лягушках, о течке животных. Много позже по поручению Сергея Тимофеевича Аксакова я занимался вместе с Рулье вторым изданием «Записок Ружейнаго Охотника» с рисунками разных птиц. Рулье жил в самом конце Тверской на грязном извощичьем дворе, окруженный собаками, кошками и пр. Старый холостяк любил распевать, и на Тверской площади перед домом генерал-губернатора ночью, когда возвращался из какого-то клуба, постиг его удар. Как жаль, что до сих пор не собраны его сочинения, написанные прекрасным Русским языком.
В течение моей студенческой жизни вступил я в близкое знакомство с матерью, отцом и сестрою моего товарища Петра Алексеевича Васильчикова. Александра Ивановна, рожденная Архарова, прозванная в Московском обществе tante-vertu[49], меня жаловала, и я с благодарностью помню ее ласку и гостеприимство. Всякий раз меня от них увозили домой на их лошадях. Я много узнал от нее разного рода преданий, к тому же она была женщина очень образованная.
Нередко бывал я также у Головкиных, переселившихся из Рязани и живших в своем доме в самом конце Донской улицы. Бывало, Михаил Яковлевич, державший свою лошадь, закупит снедей для стола и своей Марии Ильиничны (тогда только что начали готовить в кондитерских сладкие пироги и славился так называемый gâteau Mathilde) и заедет за мною, чтобы провести у них обеденное и вечернее время (разумеется, и за карточками). От них уезжал я на их лошади до первого встретившегося извощика. В то время я уже давал уроки и мог покупать себе книги.
На лето, по окончании курса я, конечно, уехал в Липецк и не знал, что мне дальше делать, как в октябре получил письмо от Коссовича, приглашавшего меня занять место учителя у внуков графа Блудова, Шевичей. Снарядив меня в путь, маменька зажгла свечи перед иконами и, помолившись с нею, я принял ее благословение; это был последний раз, что я ее видел. Ей оставалось с небольшим год жить на свете. Забыл о Нащекине. Это был лучший друг Пушкина, и я, уже в то время занимавшийся Пушкиным, вошел с ним в близкое знакомство. Он жил у Неопалимой Купины близ Девичьяго поля и, проведя довольно безобразную жизнь, промотавши большое состояние, вел богомольную жизнь, и к нему приходили разного рода старцы и калики-перехожие, что не мешало ему заниматься и столоверчением. Неоднократно получал он крупные наследства и тогда гостеприимству его не было пределов, а потом вдруг не на что было купить дров, и он топил камины старою мебелью. Молодая супруга его, Вера Александровна, не унывала. У них часто бывал художник Эммануил Александрович Мамонов, мой тогдашний приятель, с которым я сблизился впоследствии у Елагиных. Конечно, роскошная жизнь кончилась бедностью. Дочь, учившаяся в Петербургском Екатерининском институте, сошлась с подругою княжною Волконскою, и когда последняя в 1856 году вышла за Французского посла при нашем дворе графа Морни, то поступила к ним в дом, где, конечно, участь ее была не красна. А Мать ее прожила в Москве очень долго, постоянно переходя от жизни роскошной к полной нищете. Она очень искусно умела выпрашивать себе милостыню, и такова была любовь многих к покойному ее мужу, что ей давали помногу, в том числе граф Вьельгорский и в особенности князь П. А. Вяземский. Перед прибытием двора в Москву он обыкновенно напишет ей несколько рекомендательных писем; она оденется очень прилично и с письмом от князя Вяземского не получает отказа в щедром пособии, на которое немедленно поведет кратковременную широкую жизнь. Ведь муж ее был друг Пушкина: этого было достаточно, чтобы развязывать кошельки и выдавать ей не десятки, а сотни рублей. Она являлась для того и в Общество любителей Российской словесности; например, благотворительная Александра Васильевна Протасова была ею так разжалоблена, что наняла ей годовую квартиру, снабдила всем нужным для порядочного житья. С меня она взимала не более 10 рублей за один раз. Доход приносили ей и предъявляемые ею письма Пушкина к ее мужу, случайно сохранившиеся. Павел Воинович говорил мне, что особенно жалел он об утрате некоторых писем. Так, в одном из них, уже за несколько месяцев до смерти, Пушкин просил у него достать 5000 рублей, чтобы уплатить мелкие долги Петербургской жизни и уехать на постоянное житье в Михайловское, на что и Наталья Николаевна соглашалась. Но у Нащекина на этот раз денег не было. Так иногда судьба в зависимости от мелкого обстоятельства.