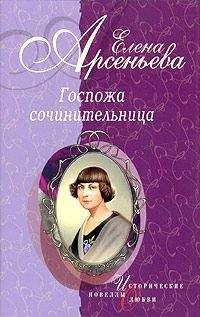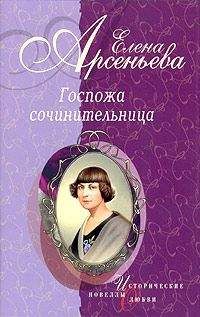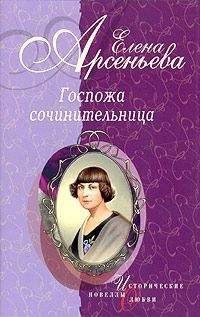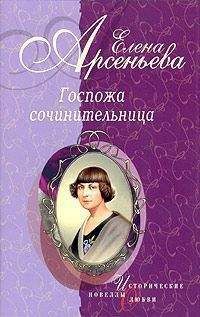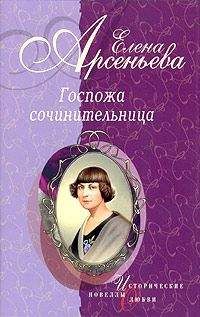Елена Арсеньева - Костер неистовой любви (Марина Цветаева)
Наконец Марина заметила, что кормить девочек нечем, что они умирают от голода. Отдала их в приют, надеясь, что там кормежка посытней, но спустя некоторое время забрала оттуда разболевшуюся Алю, оставив пока Ирину, которая там и умерла…
Бог послал ей в этом горе четыре утешения любовью, почти одновременно свершившейся.
Словно мало Марине было одной Софьи, одной подруги, – неведомая темная сила повлекла ее к Сонечке Голлидэй, юной и прелестной актрисе того же театра, роман с которым у Марины уже осуществился дважды – через Антокольского и Завадского. Сонечку уже сейчас признавали гениальной актрисой, а будущее ей прочили еще более блистательное.
Спектакль «Белые ночи», в котором она исполнила главную роль, стал феерическим событием в Москве театральной. Теперь всякая постановка была обречена на успех, если в ней играла Сонечка. Правда, режиссерам с ней было трудно: «Она – сплошное исключение, на сцене только ее видно».
Та, первая, Софья была старше Марины, сильнее, более властной и знающей, что ей надо. В этой новой связи сильной стороной была именно Марина: и старше на четыре года, и вообще – взрослая самостоятельная женщина, в то время как Сонечка – ребенок, инфанта, «маленькая девочка с двумя черными косами, с двумя огромными черными глазами, с пылающими щеками. Передо мною – живой пожар… И взгляд из этого пожара – такого восхищения, такого отчаяния, такое: боюсь! такое: люблю!»
Со стороны Марины это было – обожание и защита, то самое любовно-материнское чувство, которое она раньше испытывала только к молодым красивым мужчинам. «Я часто обнимала ее за плечи жестом защиты, охраны, старшинства… Не помню, чтобы я ее целовала, кроме поцелуев обычных, почти машинальных, при встрече и прощании. И вовсе не из-за дурной – или хорошей – стыдливости: я слишком любила ее, всё прочее было меньше».
Марина писала для Сонечки роли – в драмах «Фортуна», «Приключение», «Феникс» и посвящала ей стихи:
Два дерева: в пылу заката.
Под дождем – еще под снегом —
Всегда, всегда: одно к другому.
Такой закон: одно к другому.
Закон один: одно к другому.
Два дерева – два любимых Мариной тополя, которые стояли во дворе ее дома в Борисоглебском переулке, где Голлидэй была частой и желанной гостьей. А на самом деле это – о Сонечке и Марине.
Сонечка не любила, когда Марину называли поэтессой или гением, хотя преклонялась перед ее творчеством: «Перед вами, Марина, перед тем, что есть – вы, все ваши стихи – такая чу-уточка, такая жалкая крохотка…»
Какая трогательная ревность и зависть к славе старшей подруги!
Эта любовь длилась недолго. Не было между ними ни ссор, ни взаимных терзаний, ни измен… Просто однажды Сонечка ушла от Марины в обычную женскую долю: «Ее неприход ко мне был только ее послушанием своему женскому назначению: любить мужчину – в конце концов, все равно какого – и любить его одного до самой смерти». Тоска и нежность после этой разлуки родили «Повесть о Сонечке» – Марина напишет ее в конце 30-х годов, случайно, уже за границей, узнав о смерти подруги. А расстались они в самом начале 20-х.
Вопрос только – о Сонечке ли повесть… «Как я люблю – любить!» – повторяет она не однажды. Но ведь это – смысл жизни самой Марины!
Вторым утешением в том безвременье были – наконец-то полученные вести о муже. Сергей жив! Он еще год назад пытался сообщить о себе через Макса Волошина, однако оказии не случилось, его письмо не нашло Марину. И вот наконец-то Илье Эренбургу, поэту, журналисту, шпиону, удалось разыскать его в Константинополе и даже переслать Марине от него вести:
«Мой милый друг Мариночка, сегодня получил письмо от Ильи Григорьевича, что Вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробродил весь день по городу, обезумев от радости…
Что мне писать Вам? С чего начать? Нужно сказать много, а я разучился не только писать, но и говорить. Я живу верой в нашу встречу. Без Вас для меня не будет жизни, живите! Я ничего от Вас не буду требовать – мне ничего не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы…
Наша встреча с Вами была величайшим чудом, и еще большим чудом будет наша встреча грядущая. Когда я о ней думаю – сердце замирает – страшно – ведь большей радости и быть не может, чем та, что нас ждет. Но я суеверен – не буду об этом…
Все годы нашей разлуки – каждый день, каждый час – Вы были со мной, во мне. Но и это Вы, конечно, должны знать…
О себе писать трудно. Все годы, что не с Вами, прожиты, как во сне. Жизнь моя делится на „до“ и „после“, и „после“ – страшный сон, рад бы проснуться, да нельзя…
Что сказать о своей жизни? Живу изо дня в день. Каждый день отвоевывается, и каждый приближает нашу встречу. Последнее дает мне бодрость и силу. А так все вокруг очень плохо и безнадежно. Но об этом всем расскажу при свидании. Очень мешают люди, меня окружающие. Близких нет совсем…»
«С сегодняшнего дня – жизнь, – записала в дневнике Марина. – Впервые живу».
Ответа мужу она отправить не могла: записала его в тетрадку, как черновик стихотворения:
«Мой Сереженька! Если от счастья не умирают, то – во всяком случае – каменеют. Только что получила Ваше письмо: закаменела… Не знаю, с чего начать. – Знаю, с чего начать: то, чем и кончу: моя любовь к Вам…»
Они и в самом деле истосковались друг по другу, эти параллельные прямые, которые никогда не пересекутся, но которым непременно нужно знать, что вот она, другая параллельная, – существует, идет, бежит где-то поблизости…
Писала я на аспидной доске.
И на листочках вееров поблеклых.
И на речном, и на морском песке.
Коньками по льду и кольцом на стеклах, —
И на стволах, которым сотни зим…
И, наконец, – чтоб было всем известно! —
Что ты любим! любим! любим! любим! —
Расписывалась – радугой небесной.
Как я хотела, чтобы каждый цвел.
В веках со мной! под пальцами моими!
И как потом, склонивши лоб на стол.
Крест-накрест перечеркивала имя…
Но ты, в руке продажного писца.
Зажатое! ты, что мне сердце жалишь!
Не проданное мной! внутри кольца!
Ты – уцелеешь на скрижалях.
Над этими стихами – посвящение: С.Э.
Какие слова, какие признания, какая любовь, какое исступление чувств!
Если перечесть все стихи Марины, найдешь подобные слова, подобное исступление практически в каждом из них. Она каждому из своих любовников «расписывалась радугой небесной». Каждого – мгновение или вечность, это уж кому как повезло, – любила единственной и смертельной любовью. Каждого могла уверить, что он – смысл ее существования. И с легкостью необыкновенной бежала (вернее, летела!) уверять в том же другого.